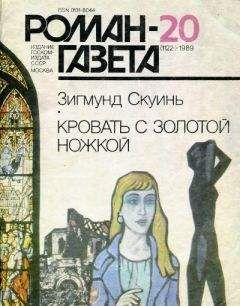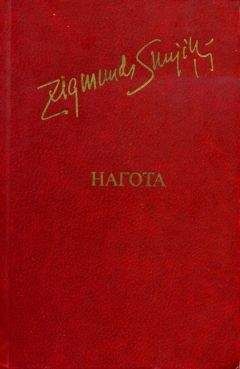Августу было восемь, Ноасу девять лет, когда сушили хлеб в снопах и загорелась рига. С перепуга у Августа началось рожистое воспаление — щека вздулась, покраснела. Как водилось, привезли его к знахарке, щупленькой, кривенькой, туговатой на ухо старушке. От нее, как ни странно, совсем не пахло старческим телом, одежонка источала запах валерианы и нагретого солнцем бора. Старушка к его щеке привязала синюю бумажку, на ней начертила мелом крест и прошептала заговор. После этого еще немного поговорила с Августом.
— Какая у тебя долгая и дивная борозда жизни, — сказала она, недоверчиво водя пальцем по его ладошке. — Посередке обрывается, потом дальше тянется. Ни у кого такой видать не приходилось. Все мы в этом мире на ладони божьей. А ладонь божья, запомни, о трех чередах.
С той поры Август частенько раздумывал над тем, что линия жизни у человека похожа на борозду. Увидит в поле пахаря, и покажется ему, что тот прокладывает линию жизни на огромной, раскрытой ладони, то зеленой и цветущей, то укрытой снежным покровом. Над этой таинственной, несказанной красоты ладонью плывут облака, солнце сияет, звезды горят.
Отчего линия жизни на его ладони такая странная? Может, ему суждено рано умереть? Правда, о смерти представления в ту пору были смутные. В толстой книге, Библии, которую дед по воскресным дням читал с выражением, смерть изображалась костлявой старухой с пустыми глазницами и косой за плечами. Когда Августу случалось порезать палец, бабушка, присыпав ранку пеплом, завязывала ее чистой белой тряпицей. Он садился у окна и ждал смерти, которая, по рассказам бабушки, должна была явиться из-за плетня со стороны сада. Если смерть не приходила дотемна — камень с плеч, и страхи сменялись радостью: на сей раз костлявая старуха его пощадила.
На вопрос, почему ладонь божья о трех чередах, Август в разные поры жизни находил разные ответы. Но чем больше он впрягался в крестьянский труд, чем глубже постигал его закономерности, тем яснее понимал, что занятие это не сравнить ни с каким другим. Зерно пускало корни не только вниз, но и вверх, и эти невидимые, к солнцу и луне тянувшиеся корни были столь же важны, как и корни, растекавшиеся в почве. Поле вверх росло, но оно росло и вниз, и верхнее поле зависело от поля нижнего. Земледелец, знающий лишь верхний пласт, сродни близорукому страннику на чужбине. Горсть одной и той же земли могла быть сухой, как порох, и вязкой, как глина. Каждой капле дождя было уготовано русло, предрешен заранее и ток ее. Там, внизу, имелись точки, где прослушивался пульс земли, там пролегали чувствительные жилы, слоились плодородные и неродящие пласты.
Не спуская глаз с ладони божьей, Август временами поглядывал и на свою, на ней, однако, ничего не менялось. Линия жизни так и осталась посередке разорванной. И он постепенно свыкся с мыслью о ранней смерти, не очень в это веря, но не отвергая и такую возможность. Мысль — рано умереть — мелькала в голове еще в том возрасте, когда над подобными вопросами не задумываются. И, помышляя о женитьбе, Август тут же себя осаживал: кто знает, сколько мне еще осталось землю топтать. И тогда, бывало, что-то защемит в душе, но вынудить себя поторопиться не удавалось.
Впервые увидав молодую жену Ноаса Элизабету, Август не ощутил ни удивления, ни симпатии, тем более мужского влечения. Напротив, сердце екнуло от недобрых предчувствий, суть которых он не мог уяснить, но они заронили в душу настороженность. Как если б он шагал себе в полной уверенности, что идет по верному пути, и вдруг обнаружил, что заблудился.
Лишь постепенно до Августа дошло: Элизабета своей внешностью, своим образом жизни поколебала его крестьянские представления о взаимоотношениях мужчины и женщины и о том, что до той поры для него составляло понятие «надо бы жениться».
Элизабета в его глазах была чем-то вроде марева — вполне реальная и в то же время непричастная к тому миру, за пределами которого он до сих пор не чувствовал нужды искать другой. Когда Август заводил с ней разговор о прополке картошки или отелившейся корове, она, не отвечая, просто смотрела на него сосредоточенно и пристально своими прекрасными, слегка отрешенными глазами, в которых он ничего не умел прочитать. И он умолкал, теряясь в догадках, о чем же ему говорить с женою брата. И неловкое молчание, отягчаемое пониманием, что Элизабета обитает в ином, для него непостижимом и недоступном мире, как-то особенно будоражило Августа, разжигая интерес и любопытство. Чисто женские прелести Элизабеты привлекали Августа в меньшей мере. Даже в самых сокровенных помыслах не дерзал он приближаться к телесным тайнам Элизабеты. Просто беседовал с ней в своих мыслях; придерживая рукой в белой перчатке широкополую шляпу, Элизабета в белом платье шагала с ним рядом по картофельным бороздам, объясняя просто и ясно, как она здесь очутилась, какой рисуется ей жизнь с Ноасом, как себе представляет обязанности жены и что ей кажется в жизни самым главным.
Лил дождь, шел снег, палило солнце, трещали морозы, а в поле всегда находилась работа, и мысли роились в голове, подстегиваемые одиночеством. Кожа на лице и на руках у него задубела, воспринимая град как легкое щекотание, пронзительный ветер как ласку. И оттого, что сам он никогда бы не подумал спрятаться от пурги или зноя, тем с большим любопытством наблюдал за чувствительной Элизабетой. В редких случаях она беспечно и бездумно появлялась под открытым небом — кроткими летними вечерами иногда забывалась на цветнике старой Браковщицы или до полудня, пока солнце еще не печет, отправлялась в лес по ягоды. Обычно же Элизабета оберегала себя от солнца и ветра, от жары и холода. Вечно от чего-то хоронилась, укрывалась, заслонялась вуалью, зонтиком, пледом, пелериной, муфтой или шалью. Элизабету никто не видел босиком и даже без чулок, зима или лето — ее лицо и руки не меняли своего оттенка. Выйдет из дома, остановится на пороге, с опаской поглядит на небо — если даже выход предполагался столь же кратким, как всплеск рыбы над водой.
Однажды летом — сено было уже убрано, хлеба еще только наливались — свалился на землю жестокий зной. Тучами носилась крупная, жирная, пучеглазая саранча, давно в тех местах не виданная. Птицы замертво падали на лету, коровы совсем стали недойны. С утра на горизонте собирались хмурые тучи, вроде бы сулившие грозу, но там они и оставались, не пролив на землю ни единой капли. Старая Браковщица едва ноги волочила, дышала с трудом, на кончике ее острого носа неизменно трепетала капелька пота. Элизабета вела себя странно, за обедом почти не говорила, глаз не отрывала от стола и, наскоро поев, тут же уходила. Может, все объяснялось жарой, может, тем, что Ноас третий месяц не подавал о себе вестей. Второй год он находился в плавании, последняя открытка пришла из африканского порта Фритаун, в ней Ноас писал, что дальше отправится к мысу Лопес, где примет на борт стволы окумеи и другой ценной древесины, экевазенго, в Европе прозываемой розовым деревом.
И Августу было не по себе. Работал в иоле, пот градом с него лил, а внутри будто подмораживало. Точно в жилах студеная кровь текла. Дыхание застревало в горле. Все раздражало.
Хотя день и был не субботний, под вечер, когда раскалившийся шар солнца закатился в дымку над небосклоном, Август затопил баню. От любой душевной и телесной хворости он, как и все Вэягалы, знал одно лекарство: хорошо пропариться на полке с березовым веником. Смирный летний вечер незаметно перетек в прозрачные ночные сумерки, а он все парился. Потом, дымящийся, облипший пахучими березовыми листьями, уселся на скамейку перед баней и вздохнул так громко, что в ласточкиных гнездах под застрехой запищали птенцы. Над садом, будто бы тоже спустившись с банного полка, висел молодой румяный месяц. Деревья, потворщики темноты, норовили убежать от лунного света по тропкам черных теней. Переведя дух, Август, все еще дымящийся, облепленный листьями, в лунном свете такой огромный, местами бурый от загара, местами белый и сплошь волосатый, направился в сад. С весомостью тяжелых капель с вишни опадали ягоды. Август провел пятерней по веткам, подушечками пальцев ощущая влажную податливую плоть ягод. На цветнике под окнами Элизабеты исходили ароматом маттиолы. Лакомясь вишней, Август брел по саду. Окно Элизабеты было растворено настежь, занавеска сдвинута в сторону. Наверно, ужё спит, подумал Август. Но внутри мелькнули белые руки, занавеска встрепенулась. У Августа подкосились колени. Его длинная черная тень растянулась до окна Элизабеты. Заметалась невесть откуда появившаяся летучая мышь, должно быть одурманенная запахом ночных цветов.
Август постоял немного, потом, вздохнув еще тяжелее прежнего, поплелся обратно в баню. И, уходя, услышал, как в комнате Элизабеты часы пробили два пополуночи.
Завтракала Элизабета отдельно, поскольку вставала поздно. Но обедать выходила к общему столу. То, что Элизабета может завести разговор о ночном происшествии, разумеется, исключалось. Но их взгляЛы непременно должны будут скреститься. Дальше в своих мыслях Август не заходил. Но именно это его и терзало — какими глазами Элизабета посмотрит на него при встрече. И какими он посмотрит на Элизабету.,