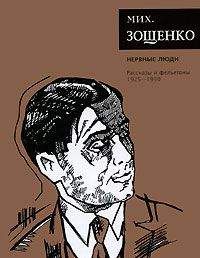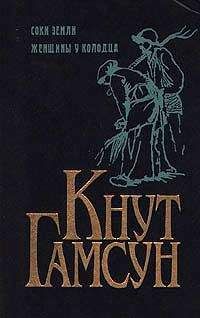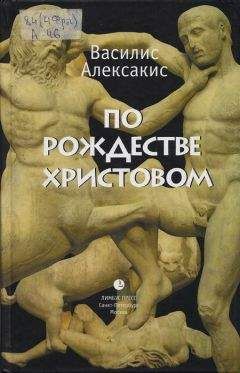Все руками разводят и башками крутят. И никто не знает, как из этого немыслимого положения выйти.
Один человек, впрочем, знает. Это сам Василий Иванович. Он говорит:
— Пущай тогда мне платят за нагрузку, черт с ним!
Ну, чем разжиться безработному человеку в наше бедное время? Да, прямо сказать, нечем.
Ну, спасибо, велосипед задавит. Ну, сорвешь целковый с неосторожного проезжающего. Или, скажем, какая-нибудь хозяйская собачонка за штаны схватит. Рублей десять набежит за это самое.
Да только ядовитое как-то на земле пошло: велосипеды тормозят, собачки не кусаются. Беда прямо-таки безработному человеку!
А другая собачка и кусит, да хозяина после не найдешь. Смылся хозяин. Сорвать не с кого. И выходит, что совсем зря собачка кусила безработного человека.
Очень масса препятствий встречается в случайном заработке!
Другой раз привалит счастье — вот оно, бери его, хватай руками, — так нет, закон, скажем, не предусматривает этой статьи.
Вот раз гуляем мы печально в саду Трудящихся. Глядим — собачка с бантиком. Этакая мелкая комнатная собачонка на хвосте сидит у скамейки. Тут же и хозяева весенним воздухом дышат. Гражданин с дамочкой.
И вот осеняет нас мысль насчет собачки. Сажусь рядом на скамейку и тихонько ногой накручиваю у собачьей морды. А сапог рваный.
Другая комнатная собачка за такой сапог враз бы за штаны схватила, и тогда выкладывай хозяева денежки не менее десятки. А эта подлая собачка сидит все время на хвосте и глазами за сапогом водит.
— Вз-з, говорю, куси!
Не кусает. Жирная такая, что ли, собачка попалась — неохота ей кусать.
— Хватай, говорю, тубо, проклятая.
Не хватает. Сидит по-прежнему на хвосте и глазами мигает.
«Ах так!» — думаю.
Встаю и ногой как махну эту комнатную собачку со злобы.
Визг. Шум. И крики. Народ толкается. Дамочка в истерике мечется. Гражданин рукой махает, ударить, наверное, меня хочет. Тут же и старушка какая-то подначивает. Дескать, ударь, батюшка, подлеца за собачку. Такой же, мол, собачка человек, как и мы, грешные.
А гражданин подначки послушался, развернулся и шмяк меня по уху.
«Так, думаю, рублей пятнадцать, а то и все двадцать пять набежит за это самое. Это тоже статья доходная. В царское, думаю, время не менее пяти за это платили. Эх, думаю, дурак, дурак! Ударил себе на голову…»
— Граждане, говорю, дозволено ли, говорю, безработных по роже бить на глазах у публики?
Тут шум, визг и крики поднялись.
— Не дозволено, кричат, братишка! Волоки в милицию.
Я говорю:
— Может, без милиции, граждане, обойдемся. Мне бы, говорю, рублей двадцать пять.
Народ говорит:
— Не соглашайся на двадцать пять, братишечка! Это за двадцать-то пять, может быть, каждый ударить захочет. А тут проучить надо зарвавшихся. Волоки в милицию.
Ну, пошли в милицию.
Шум, крик, стоны. Протоколы пишут. Свидетелей очень масса выступает. И все за меня. Я говорю:
— Менее как за сорок не соглашусь, граждане, раз такое полное единодушие наблюдается. Это, говорю, не при Николае Кровавом меня по роже ударили, понимать надо… Может, говорю, у меня рожа теперь болеть два дня будет. Что тогда?..
Наконец протоколы написаны, свидетели подписаны и просят всех до суда уйти честью.
Уходим.
Возвращаемся домой. Объясняем в доме как и чего. И все рады за меня, поздравляют, угощают.
Квартирная хозяйка три рубля в долг отваливает. Дворник Иван в счет будущих благ — полтинник. Андрей Иванович с пятого номера — двугривенный и обедом кормит.
Живу три дня хорошо и отлично. Мечтаю, чего куплю. Сапог, думаю, покупать не буду. Куплю сандалии. И еще полгода жить буду что богатый.
Через три дня суд наступает.
Все по закону. Кодекс лежит на столе. Портреты висят. Губпрокурор сбоку сидит. Речи происходят, а все за меня.
«Менее сорока пяти, — думаю, — не соглашусь».
И вдруг выносят резолюцию: полгода со строгой изоляцией.
А мне, безработному человеку, хоть бы кто плюнул.
— Граждане, говорю, народные судьи! Господин губпрокурор. Мне бы, говорю, рублей десять…
Молчат. Только по губам деньгами помазали.
— Да что ж это, говорю, граждане, народные судьи! Хозяйке-то, говорю, кто платить будет? Андрей-то, говорю, Иваныч обождет. А хозяйка-то, говорю, повесится. Войдите, говорю, в положение. Эх, говорю, жизнь-жестянка!
Так и ушел, с чем пришел.
Вчера, граждане, сижу я в Таврическом саду на скамейке. Кручу папиросочку. По сторонам гляжу. А кругом чудно как хорошо! Весна. Солнышко играет. Детишки-ребятишки на песочке резвятся. Тут же, на скамейке, гляжу, этакий шибздик лет десяти, что ли, сидит. И ногой болтает.
Посмотрел я на него и вокруг.
«Эх, — думаю, — до чего все-таки ребятишкам превосходней живется, чем взрослому. Что ж взрослый? Ни ногой не поболтай, ни на песочке не поваляйся. А ногой поболтаешь — эвон, скажут, балда какая ногой трясет. По морде еще ударят. Эх, думаю, несимпатично как-то взрослому человеку… Комиссии всякие, перекомиссии. Доклады и собрания… На три минуты, может, вырвешься: подышать свежей атмосферой, а жена, может, ждет уж, уполовником трясет, ругается на чем свет стоит, зачем, мол, опоздал. Эх, думаю, счастливая пора, золотое детство! И как это ты так незаметно прошло и вон вышло»…
Посмотрел я еще раз на ребятишек и на парнишечку, который ногой болтает, и такая, прямо сказать, к нему нежность наступила, такое чувство — дышать нечем.
— Мальчишечка, — говорю, — сукин ты сын! Не чувствуешь, говорю, подлец, небось, полного своего счастья? Сидишь, говорю, ногой крутишь, тебе и горюшка никакого. Начихать тебе на все с высокого дерева. Эх ты, говорю, милый, ты мой, подлец этакий! Как, говорю, звать-то тебя? Имя, одним словом.
Молчит. Робеет, что ли.
— Да ты, — говорю, — не робей, милашечка. Не съест тебя с хлебом старый старикашка. Иди, говорю, садись на колени, верхом.
А парнишечка обернулся ко мне и отвечает:
— Некогда, говорит, мне на твоих коленках трястись. Дерьма тоже твои коленки. Идиёт какой.
Вот те, думаю, клюква. Отбрил парнишечка. Некогда ему.
— С чего бы, — говорю, — вам некогда? Какие, извините за сравнение, дела-то у вас?
А парнишечка, дитя природы, отвечает басом:
— Стареть начнешь, коли знать будешь много.
Вот, думаю, какая парнишечка попалась.
— Да ты, — говорю, — не сердись. Охота, говорю, паршивому старикашке узнать, какие это дела приключаются в вашем мелком возрасте.
А парнишечка вроде смягчился после этого.
— Да делов, — говорит, — до черта! Комиссии всякие, перекомиссии. Доклады и собрания. Сейчас насчет Польши докладывать буду. Бежать надо. И школа, конечно. Физкультура все-таки… На три минуты, может, вырвешься подышать свежей струей, а Манька Блохина или Катюшка Семечкина, небось, ругаются. Эх-ма!
Парнишечка вынул «Пушку», закурил, сплюнул через зубы что большой, кивнул головой небрежно и пошел себе.
А я про себя думаю:
«Счастливая пора, золотая моя старость! И в школу, между прочим, ходить не надо. И с физкультурой все-таки не наседают».
После закурил «Пушку» и тоже пошел себе.
А думается мне, граждане, что женскому классу маленечко похуже существовать, чем нам.
Конечно, за эти слова какая-нибудь ханжа мне может плюнуть в глаза.
— Позвольте, скажет, почему такое хуже, раз своевременно объявлено равенство?
Эх, братишечки! Берите самый громадный камень с мостовой и бейте меня этим громадным камнем по башке — не отступлюсь от своих слов.
Вчера, например, соседушка мой по комнате кинулся стулом в свою супругу.
С благородным негодованием разлетелся я в ихнюю комнату.
— Гражданка, говорю, немедленно перестаньте жить с подлецом. Уходите от него.
Она на меня же и взъелась.
— Да ты, говорит, что, обалдел? Куда я уйду? К тебе, что ли?
Я говорю:
— Не ко мне. Зачем же, помилуйте, ко мне? Ко мне, говорю, не надо. Это, говорю, я так отвлеченно выражаюсь.
А она на меня же стулом размахивается. Еле вышел.
Конечно, может, это была слабая женщина. Другие, может, крепче в жизни держатся. И не отступают от своих намеченных идеалов. Только таких-то в своей жизни я встречал маловато. Одну только вот и встретил, Марусю Блохину.
Эта действительно ушла от мужа. И стала самостоятельно жить. И ничего себе жила. Раз только впала в отчаяние. Хотела даже на улицу идти. Да сдержалась. А уж даже брови пробкой намазала, и губы подвела, и блузку эффектную надела. Вышла и стоит у ворот.
И вдруг какой-то к ней хахаль подходит.
Тут у ней сразу и перелом случился.
— Да ты, — говорит ему, — подлая твоя душа, что же это подходишь? Да, может, это порядочная дама вышедши к воротам подышать вечерней прохладой? Да как же, говорит, не лопнут твои бесстыжие глаза?