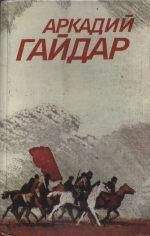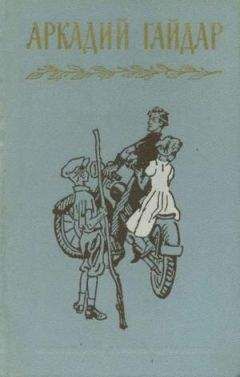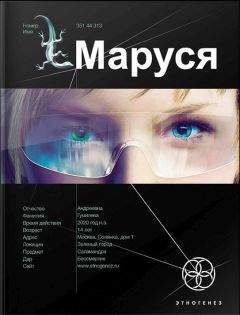— Послушайте! Вы ведь шутите? — смущаясь, спросил с верхней полки круглолицый паренек. — Так же не бывает.
— Бывает всяко, — задорно ответил дядя и продолжал свой рассказ: — Но скромность, увы, не всегда добродетель. Наши дела, наши поступки принадлежат часто истории и должны, так сказать, вдохновлять нашу счастливую, но, увы, беспечную молодежь. И если не расскажет он, то за него расскажу я.
Тут дядя обвел взглядом всех присутствующих и спросил, не сидел ли кто-нибудь в прежние или хотя бы в теперешние времена в центральной харьковской тюрьме.
Нет, нет! Оказалось, что ни в прежние, ни в теперешние не сидел никто.
— Ну, тогда вы не знаете, что такое харьковская тюрьма, — начал свой рассказ дядя.
Мрачной серой громадой стояла она на высоком холме так называемой Прохладной, или, виноват, Холодной горы, вокруг которой раскинулись придавленные пятой самодержавия низенькие домики робких обывателей. Тоскливо было сидеть узнику в угрюмой общей камере номер двадцать семь. Из окна была видна дорога, по которой катили грузовики, шли на работу служащие. И торговки-спекулянтки с веселым гоготом тащили на рынок корзины с фруктами и лотки жареных пирожков с мясом, с рисом и с капустой. Узник же получал, как вы сами понимаете, всего шестьсот граммов, то есть полтора фунта. Кроме того, он жаждал свободы.
«Даешь свободу! — громко тогда воскликнул про себя узник. — Довольно мне греметь кандалами и чахнуть в неволе, дожидаясь маловероятной амнистии по поводу какой-либо годовщины, точнее сказать — императорской свадьбы, рождения или коронации!» И в тот же вечер по пути с дровозаготовок узник оттолкнул конвоира и, как пантера, ринулся в лес, преследуемый зловещим свистом пуль.
Но судьба наконец улыбнулась страдальцу. Ночь он провел под стогом сена. А наутро услышал шум трактора и увидел работающих в поле крестьян. А так как узник ходил еще в своем и был одет весьма прилично, то он выдал себя за ответственного работника, приехавшего на посевную.
Он спросил, как дела. Дал кое-какие указания. Выпил молока, потребовал лошадей до станции и скрылся, как вы уже догадываетесь, продолжать свое опасное дело на благо народа, страждущего под мрачным игом проклятого царизма…
Слушатели расхохотались и, гремя посудой, кинулись к выходу, потому что поезд затормозил перед станцией, богатой дешевым молоком и курами.
— Но послушайте, вы всё шутите, — обиженно заметил сверху круглолицый паренек. — Ведь ничего этого вовсе так не бывает.
— Да, я шучу, молодой человек, — вытирая платком лоб, хладнокровно ответил дядя. — Шутка украшает жизнь. А иначе жизнь легка только тупицам да лежебокам. Ге! Так ли я говорю, юноша? — хлопнул он меня по плечу. — А вон, насколько я вижу, идет и проводник с билетом.
Дядя остался караулить вещи, а я взял нетяжелый чемодан и пошел провожать в мягкий вагон старика Якова, который нес с собой завернутый в наволочку портфель, полотенце, апельсин и газету.
В купе было всего два места. Внизу, у окна справа, сидел пожилой человек, на столике перед ним лежала книга, за спиной его стояла полевая кожаная сумка, а рядом на диване валялась подушка.
Он искоса взглянул на нас, когда мы скрипнули дверью. Но, увидев, что в купе входит не какой-нибудь шалопай, а почтенный старик с орденом, он учтиво ответил на поклон и подушку отодвинул. Верхнее место, то самое, на которое опоздал какой-то пассажир, было свободно. Но сразу лезть спать старик Яков не захотел, а надел очки и взялся за газету.
Однако я хорошо видел, что он не читает, а исподлобья, но зорко смотрит в сторону пассажира.
Я помялся и пожелал старику Якову спокойной ночи.
Тогда он легонько охнул и тихим злым голосом попросил меня передать дяде, чтобы тот вместо негодной, черной, прислал обыкновенную походную грелку, наполненную водой до половины. Я удивился и хотел переспросить, но вместо ответа старик Яков молча показал мне кулак. Обиженный и слегка напуганный, я вернулся и передал дяде эту просьбу.
Дядя насупился, негромко кого-то выругал, полез к себе в сумку, достал небольшой сверток и тотчас же вышел, должно быть к проводнику за водой. Вскоре он вызвал меня на площадку. Взгляд его был строг, а круглые глаза прищурены.
— Возьми, — сказал он, протягивая мне серую холщовую сумочку, затянутую сверху резиновым шнуром. — Возьми эту грелку и отнеси. Понял? — Он сжал мне руку. — Понял? — повторил дядя. — Иди и помни, о чем мы с тобой перед отъездом говорили.
Голос у дяди был тих и строг, говорил он теперь коротко, без всяких смешков и прибауток. Рука моя дрожала. Дядя заметил это, потрепал меня за подбородок и легонько подтолкнул.
— Иди, — сказал он, — делай, как тебе приказано, и тогда все будет хорошо.
Я пошел. По пути я прощупал сумочку: внутри нее что-то скрипнуло и зашуршало; грелка была холодная, по-видимому, кожаная, и вместо воды набита бумагой.
Я постучался и вошел в купе. Незнакомый пассажир сидел у столика, низко склонившись над книгой. Старик Яков читал, откинувшись почти к самой стенке.
Он схватил грелку, легонько застонал, положил ее себе на живот и закрыл полами пиджака.
Я вышел и в тамбуре остановился. Окно было распахнуто. Ни луны, ни звезд не было. Ветер бил мне в горячее лицо. Вагон дрожал, и резко, как выстрелы, стучала снаружи какая-то железка. «Куда это мы мчимся? — глотая воздух, подумал я. — Рита-та-та! Трата-та! Поехали! Эх, поехали! Эх, кажется, далеко поехали!»
— Ну? — спросил, встречая меня, дядя.
— Все сделано, — тихо ответил я.
— Хорошо. Садись, отдохни. Хочешь есть — вон на столе колбаса, булка, яблоки.
От колбасы я отказался, яблоко взял и съел сразу.
— Вы бы мальчика спать уложили, — посоветовала старушка. — Мальчонка за день намотался. Глаза, я смотрю, красные.
— Ну, что за красные! — ответил ей дядя. — Это просто так: пыль, тени. Вот скоро будет станция, и он перейдет ночевать к старику Якову. Старик без присмотра — дитя: то ему воды, то грелку. А с начальником поезда я уже договорился.
— С умным человеком отчего не договориться, — вздохнула старушка. — А у меня сын Володька, бывало, говорит, говорит. Эх, говорит, мама, никак мы с тобой не договоримся!.. Так самовольно на Камчатку и уехал. Теперь там, шалопай, капитаном, что ли.
Старушка улыбнулась и стала раскладывать постель, а я подозрительно посмотрел на дядю: что это еще затевается? В какой вагон? Какие грелки?
Мимо нашего купе то и дело проходили в ресторан люди. Вагон покачивало, все пошатывались и хватались за стены.
Я сел в уголок, пригрелся и задумался. Как странно! Давно ли все было не так! Били часы. Кричал радиоприемник. Наступало утро. Шумела школа, гудела улица, и гремел барабан. Четвертый наш отряд выбегал на площадку строиться. И уж непременно кто-то там кричит и дразнит:
Сергей-барабанщик,
Солдатский обманщик,
Что ты бьешь в барабан?
Еще спит капитан.
«Но! Но! — говорю я. — Не подходи ближе, а то пробью по спине зорю палками».
Ту-у! — взревел вдруг паровоз. Вагон рвануло так, что я едва не свалился с лавки; жестяной чайник слетел на пол, заскрежетали тормоза, и пассажиры в страхе бросились к окнам.
Вскочил в купе встревоженный дядя. С фонарями в руках проводники кинулись к площадкам.
Паровоз беспрерывно гудел. Стоп! Стали. Сквозь окна не видно было ни огонька, ни звездочки. И было непонятно, стоим ли мы в лесу или в поле.
Все толпились и спрашивали друг друга: что случилось? Не задавило ли кого? Не выбросился ли кто из поезда? Не мчится ли на нас встречный? Но вот паровоз опять загудел, что-то защелкало, зашипело, и мы тихо тронулись.
— Успокойтесь, граждане! — унылым голосом закричал проводник. — Это какой-нибудь пьяный шел из ресторана, да и рванул тормоз. Эх, люди, люди!
— Напьются и безобразят! — вздохнул дядя. — Сходи, Сергей, к старику Якову. Старик больной, нервный. Да узнай заодно, не переменить ли ему воду в грелке.
Я сурово взглянул на него: не ври, дядя! И молча пошел.
И вдруг по пути я вспомнил то знакомое лицо артиста, что мелькнуло передо мной на платформе в Серпухове. Отчего-то мне стало не по себе.
Я постучался в дверь пятого купе. Откинувшись спиной почти совсем к стенке, старик Яков лежал, полузакрыв глаза. На полу валялись спички, окурки, и повсюду пахло валерьянкой. Очевидно, и мягкий вагон тряхнуло здорово.
Я спросил у старика Якова, как он себя чувствует и не пора ли переменить грелку.
— Пора! Давно пора! — сердито сказал он, раскрыл полы пиджака и передал мне холщовый мешочек.
— Мальчик! — не отрывая глаз от книги, попросил меня пассажир. — Будешь проходить, скажи проводнику, чтобы он пришел прибраться.
— Да, да! — болезненным голосом подтвердил Яков. — Попроси, милый!