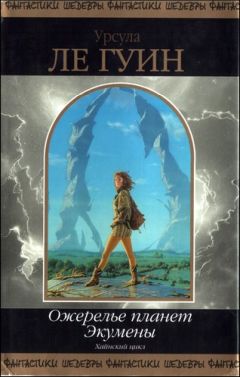– Володька, а ты все еще не женат?
Она спрашивала, не дожидаясь ответа, смеялась – и не прошло и пяти минут, как исчезло впечатление поразившей меня перемены. Нина была все та же – хорошенькая, добрая и, увы, такая же недалекая, как в те времена, когда она будила меня по ночам, чтобы выяснить, серьезно ли влюблен в нее Васька Сметанин или не серьезно.
Я упомянула что-то о Павлике, и она вдруг взволнованно захлопала глазами.
– Послушай… Извини, Володя, – она отвела меня в сторону. – Может быть, мне не следует тебя спрашивать… Но я очень волнуюсь, а ты ведь все-таки доктор. Ты ничего не заметила?
– Нет. А что?
Мы почему-то заговорили шепотом.
– Ты думаешь, я всегда такая толстая?
– А-а.
– Шестой месяц. Боюсь как!
Я сочувственно покачала головой.
– Первый раз?
– В том-то и дело. Я не хотела. Муж настоял. А ведь мне уже тридцать восемь.
– Ничего, родишь как миленькая.
– Я хочу девочку.
– Ну, это уж… – Я развела руками. – Что бог даст.
– Я понимаю. Ох… – Она вздохнула. – Так не очень заметно?
– Нисколько.
– А ты не боялась?
– Милый друг, да когда ж это было!
– А я боюсь.
– Ничего, ничего. Все будет прекрасно.
– Ты думаешь?
Органист, куда-то скрывшийся, когда мы подошли к Нине, появился в дверях. Она вздохнула.
– Нужно идти. Я в «Метрополе», номер четыреста двадцать. Приезжай, я тебя умоляю.
Был прохладный вечер с вдруг налетевшим ветерком, каким-то негородским, прозрачным. Мы шли из консерватории, Володя говорил без умолку, и, наверно, мне не следовало слушать то, о чем он говорил. А я слушала, и мне хотелось, чтобы мы еще долго шли по этим гулким весенним улицам, о которых пел в Большом зале орган.
– Я спрашивал себя: ну, а если бы мы не встретились в Сталинграде? Вот ты уверяешь меня, что я обманываюсь, что это просто возвращение к жизни, и, если бы мы не встретились, я влюбился бы в другую. Но ты не знаешь, что было всегда для меня это чувство!
Я сказала: «Довольно, Володя», но, должно быть, у меня был не очень решительный голос, потому что он замолчал, только чтобы поцеловать мою руку.
– На флоте у меня был друг, даже брат: мы побратались, и я написал его матери, чтобы она считала меня за сына. Он убит. Мы говорили, и я поражался тому, как беспечно, как равнодушно он относился к любви. И другие. А я… Тебе странно, я знаю, что все это как будто вспыхнуло вдруг. Но я никогда не мог забыть тебя, а когда влюблялся, это были женщины, которые чем-то напоминали тебя. Не говори ничего, – вдруг сказал он остановившись. – Пусть будет так, как будто ты не слышишь меня. Когда в Сталинграде я спросил тебя: «Ты счастлива?»…
– Володя, я запрещаю тебе говорить об этом.
– Хорошо. Хочешь, я расскажу тебе, как однажды, в ледоход, перешел Оку? – вдруг спросил он, остановившись и приблизив ко мне лицо с широко открытыми глазами. – Это было в Колкове, есть такой маленький городок на Оке. Я приехал туда по комсомольским делам и не один, а с товарищами, среди которых был некий Шульга, очень острый и насмешливый парень. Время было – весна, снег только что сошел, земля взъерошенная, неприбранная, и все в каком-то волнении: птицы орут без умолку, вода бежит днем и ночью. Должно быть, это волнение передалось и нам – мы много спорили и все до одного были влюблены.
– И ты?
– Да, – быстро отозвался Володя. – В том-то и дело. Но я, понимаешь, был влюблен в девушку, которая совершенно не замечала меня. Она жила в Ленинграде, в общежитии мединститута и, когда я приезжал к ней из Кронштадта, разговаривала со мной ровно десять минут, да и то уткнувшись в какую-нибудь терапию. Ну вот. Это было тогда.
Он помолчал.
– Я много раз видел ледоход, и всегда это было так, как будто какая-то сила нехотя ломала грязный лед. А тут… Шум стоял над рекой, да не шум, а рев, от которого сразу стало тревожно. Льдины сталкивались, кружились, и вода между ними была мутная, бешеная. И все вокруг было именно бешеное – солнечный блеск, какие-то птицы, носившиеся над рекой… Мы стояли и смотрели. А на том берегу тоже стояли и смотрели какие-то люди. И вдруг этот парень, Шульга, толкнул меня локтем в бок и сказал: «Ну что задумался? Небось слабо перейти?» Я посмотрел на него и стал спускаться на лед.
Мы шли. Володя говорил, я слушала и волновалась. Уже довольно давно, с полгода, как в Москве зажглись маленькие фонари, и казалось, что в переулках, слабо освещенных этим расплывающимся, падающим вниз голубоватым светом, война уже кончилась и началась мирная, полузабытая жизнь. Но война продолжалась. Часовой расхаживал у зениток, спрятанных в деревьях сквера. На улицах белели свеженаведенные линии переходов, и край панели был обведен белым – это стали делать только в годы войны. Дежурные в огромных шубах неподвижно сидели у ворот.
– У берега лед был еще нетронутый, крепкий, с темной тропинкой, по которой переходили Оку, – продолжал все с большим волнением Володя. – Я выбежал на эту тропинку, но она сразу пропала, а впереди открылась большая полынья, – наверно, в этом месте зимой выпиливали лед для складов. Ребята закричали, но голоса донеслись чуть слышно, да и не до них мне было теперь. Мне казалось, что я один на один схватился с этими льдинами. Я прыгнул и провалился, вылез и опять побежал, и нужно было сразу решать, куда броситься снова.
Мы были уже недалеко от Серебряного переулка. Патрульные встретились на Арбате, приостановились, хотели проверить документы, да, видно, раздумали, двинулись дальше. Синие лампочки горели под уличными часами.
– Берег был теперь близко, но до него не дойти, только доплыть. Вдруг стало тихо, и я увидел, что стою на огромной льдине, у которой чуть слышно плескалась вода – совсем другая, прозрачная, пронизанная светом. И в глубине мелькнуло дно, песчаное, плотное! Дно, по которому можно добраться до берега – недалеко, только двадцать или тридцать шагов, а там – люди, которые что-то кричали, бежали…
Пора было прощаться, потому что мы стояли у подъезда, и этот вечер, так не похожий на другие вечера, в моей – и Володиной? – жизни, кончился вместе с его рассказом. Я протянула ему руку. Он поцеловал ее задумчиво и тоже как-то на память.
– Вот так-то, – сказал он грустно. – И ты знаешь, мне часто кажется, что я все еще иду к тебе среди этих сталкивающихся льдин.
Мы простились, условившись встретиться завтра – на площади Пушкина, в половине седьмого.
И Володя ушел, а я осталась одна. Дежурный узнал меня, поздоровался и пошутил что-то насчет подозрительных ночных возвращений. И я пошутила и засмеялась, и не было ничего особенного в том, что мы условились встретиться завтра, и нечего было, поднимаясь по лестнице, трогать ладонями горящие щеки.
У меня был свой ключ, я открыла, зажгла свет в столовой – и сразу же погасила: на окнах были почему-то не опущены шторы, но в комнате светло от луны. Отец сидел на диване, опустив голову в руки, и плакал.
– Что с тобой? Что случилось?
Он вскочил испуганный, дрожащий.
– Ничего, ничего. Тут звонили… Тут тебе звонили…
– Кто звонил? Да говори же, папа!
– Он хотел приехать… Он… он… приедет. Он сказал, что хорошо, что тебя нет дома, потому что я могу… я должен. Но что я могу? Что же я могу, боже мой!
– Кто сказал? О ком ты говоришь?
– Не… не помню. Он, он!
Слезы душили его.
– Он сказал, что Андрей… Андрей…
– Убит?
Отец подошел ко мне, обхватил и замер, крепко сжимая мою голову руками.
– Нет, нет, нет!
Шум подъехавшей машины послышался в переулке. Это был Малышев. Он прошел несколько шагов и остановился, неподвижный, прямой, в шинели с высокими плечами, отчетливый, как тень, на пустом тротуаре. Потом, опустив голову и тяжело вздохнув, направился к подъезду.
Глава вторая
ЭТО БЫЛО ВЧЕРА
Андрей был арестован на фронте и привезен в Москву – это было все, что сказал мне Малышев, и, глядя на его расстроенное лицо с жестко поджатыми губами, я поняла, что больше ничего от него не услышу.
– Михаил Алексеевич, мы столько лет знакомы, и вы, я знаю, любите Андрея. Вы работали вместе, и кто же настоял, чтобы он вернулся в Наркомздрав, если не вы? Скажите мне все. Ведь нужно же действовать, хлопотать, доказывать, что он не виновен. Я знаю, что вы связаны, вы не имеете права… Но ведь не государственная же тайна то, что вы думаете об этой нелепости, потому что я ни одной минуты не сомневаюсь, что это нелепость.
Он сидел выпрямившись, опустив глаза.
– Не скрывайте от меня того, что может помочь ему.
– Татьяна Петровна, поверьте мне, я ничего не знаю. Андрей Дмитриевич не мог сознательно совершить преступления. В этом для меня нет ни малейших сомнений. Но с другой стороны… его могли арестовать только по серьезной причине.
– Вы его начальство, и если он арестован в связи с какими-то служебными делами, вас должны были известить об этом… Вы согласились на его арест, да? Скажите мне, дорогой Михаил Алексеевич! Мы одни, отец за стеной, он плохо слышит. Я не стану упрекать вас, если нельзя было поступить иначе.