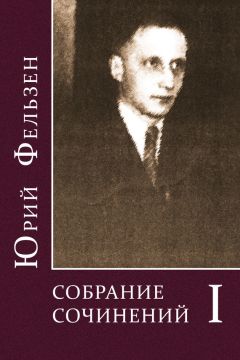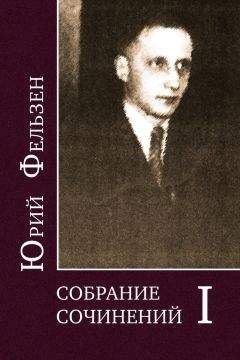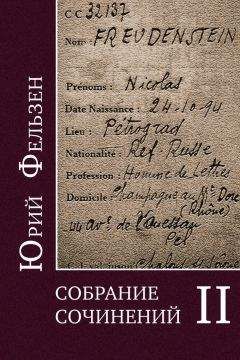Ознакомительная версия.
Леля (мне кажется в первый раз, что правильнее «Елена Владимировна», как вынужден по-неловкому ее называть в лицо) заметила мой испуг и обрадовалась ею вызванному впечатлению, но сразу пожалела, постаралась исправить, ввести меня в круг хозяйственных разговоров, шутливой откровенности, уже ставший для нас своим и, по-видимому, убежищем в опасности:
– Боюсь, мое платье недостаточно модное – сейчас видно, что я провинциалка. Только вы не должны меня стесняться – если всё устроится по-хорошему, будем вместе ходить по моим туалетным делам.
Постепенно – из-за этого милого успокаивающего тона, из-за манто, прикрывшего голые ее плечи и руки, из-за темноты в такси – я вернулся к веселой и беспечной прежней доверчивости и только в ресторане, когда Лелю словно бы нечаянно около себя находил («находить» собеседника – частое свойство моей рассеянности) или замечал чье-нибудь нестесняющееся упорное рассматривание, как-то внутренно вздрагивал и на минуту терял найденное, принятое в Леле – постоянное равновесие и опору. Так, именно, без резкого болезненного волнения, спокойно и весело (совсем не по-вчерашнему) я слушал музыку, не умилялся над пьяными, искусственно относимыми к себе словами, пил в меру – и по отсутствию потребности, и оттого, что Леле мое пьянство могло бы не понравиться: в ней есть какое-то, мне передающееся душевное здоровье, притом не грубое, а разумное и одухотворенное. Леля, казалось, угадывала мои мысли и как будто хотела себе доказать, что меня не обманывает. После молчания, вне связи с предыдущим, неожиданно она сказала:
– Мне полагается быть благоразумной, небушующей и твердой, и чтобы всё у меня выходило легко. А бывало и по-иному – правда, если могла, я противилась своему невезению. Завтра соберусь с силами и многое вам расскажу.
Мне тоже захотелось показаться таким, как Леле всего приятнее – здоровым, действенным, сильным: я безо лжи собрал по мелочам, восстановил и эту – одну из многих – свою возможность, припомнил редкие случаи бесспорной своей действенности, опасные приключения, дела, женщин, ненадолго мне подчинявшихся, преувеличил, кое-что оттенил, и вышло так, будто не главное у меня – надежды, легкий от них отказ или усталое созерцание. Впрочем, Леля, одобрительно меня слушавшая (у нее умиляюще-добросовестная манера слушать), после одного спора – о новой музыке – неожиданно заметила:
– Все-таки вы любите Чайковского и Шопена – вы мечтатель.
Я был уязвлен, словно меня поймали в смешном и невзрослом поступке, но в ту минуту (как и всё время) шла в счет только наша дружба, такие разговоры позволившая, и новая уверенность – что, наконец, «приткнулся», занят, почти захвачен, что ничего другого уже не надо искать – меня тепло и благодарно заполняла и вытеснила всё остальное. Напротив сидела вчерашняя танцорша, с неопределенно-презрительной улыбкой, и была до неузнаваемости чужой, вне сегодняшнего моего уюта, и даже наружно – по сравнению с Лелиной сияющей мягкостью – казалась топорной и жесткой.
По дороге домой, как только мы очутились в такси, что-то снова во мне переменилось (позднее действие цыганской музыки и вина, вызванное невольным нашим уединением): я Лелю опять увидал, какою под вечер внезапно обнаружил – полуголой, ослепительной перед зеркалом, – и стал, ничего не объясняя, целовать ее руки (перед тем особенно влекущие и недоступные и ни на минуту не забываемые), причем целовал их не грубо, как бы хотел, а с той обычной лицемерной нежностью, которая удается каждому из нас, если мы подражаем своей влюбленности, и которая была нужна, чтобы Лелю не оттолкнуть и не обидеть. Правда, я знал, что неловок, но Леля казалась тронутой и по-доброму меня похвалила и выручила:
– Спасибо, мой друг, за вечер – вы очень хорошо всё придумали. Ну, до завтра.
Теперь это «завтра» наступило, один из досадных, с самого утра испорченных дней, когда, проснувшись, не знаешь, что было накануне плохого, ищешь, к чему бы придраться, потом припомнятся какие-нибудь горячие лишние слова, неосторожный поступок, который покажется легкомысленным, лживым, непоправимо-обязывающим, и это чувство непоправимой ошибки на всё распространится, что перед сном ни произошло, и останется (от невозможности переменить случившееся или сказанное вернуть) одно желание – спрятаться, спать и не просыпаться. То досадное во вчерашнем дне, что меня оскорбляет и преследует – как целовал в такси Лелины руки (и не только раскаяние в неловком, несвоевременном своем порыве, но и воспоминание, быть может, преувеличенное о чрезмерной Лелиной тронутости) – это брезгливое недовольство как-то стерло вчерашнюю радость, напрасную, слишком быструю, и новая наша дружба представилась мне лишением свободы, невыносимым и утомительным. Начинаю вдумываться – у меня в точности то же скучающее бесплодное состояние, какое было до Лелиного приезда, вернее, до письма Катерины Викторовны, я возвращаюсь в свою несменяемую многолетнюю колею, случайное Лелино появление – опять не то («безнадежность или подделка»), мне пора замкнуться, уйти, и вдруг пугаюсь: ведь Леля по праву чего-то ждет, и мне тяжело и невозможно снова застыть, и вот становится ясным, что могу бороться, что мы сами многое выбираем, из чего сложится наша судьба, начало и окраску иных отношений, сами в неопределенности должны себя подтолкнуть и часто делаем это полусознательно или совсем нечаянно, и сейчас мое время выбирать, и выбор один: Леля. Но как-нибудь надо объяснить сегодняшнее мое разочарование – пускай виновато утро, полусонное, безответственное, обычно-разочаровывающее, – и не дав себе опомниться, боясь новых сомнений, бесповоротного скачка назад, в удобную притягивающе-спокойную прежнюю жизнь, я раньше условленного времени торопливо иду к Леле.
14 декабря.
С первого взгляда, с первых слов стало опять с Лелей легко и непрерывно-занимательно, и мне не пришлось сделать ни малейшего над собой усилия. Мы были весь день вместе, я провожал Лелю по разным ее делам и, когда в кафе или на улице оставался один, как-то пустел, высчитывал минуты и ни о чем не думал – такими же пустыми иногда бывают прерывающие театральное представление, нас захватившее, необходимо-скучные антракты: мы стараемся не догадываться, не ждать, не волноваться, как будет дальше. В моих отношениях и разговорах с Лелей есть что-то постоянно-праздничное – мне трудно по своей воле вырваться, ненадолго уйти, я сам с собой хитрю, чтобы как-нибудь отложить нужную мне, от Лели уводящую встречу, и только ее хлопотам и уходам покорно, со скукой, подчиняюсь. Это может довести до нелепости: я сам предложил о ней поговорить с веселым моим старичком (чтобы устроить рисовальщицей в модном доме) и, когда она обрадованно согласилась, сразу представил себе уединенную тоскливую свою поездку и вот, что-то придумав, малодушно поездку отложил.
Сегодняшний разговор с Лелей мне показался особенно увлекательным – она обещала еще вчера рассказать о себе, я прямолинейно поверил ее словам и ожидал «признания» с любопытством, отчасти поощрительно-безжалостным (как в цирке – ей мучиться, мне безопасно слушать и смотреть), отчасти сладостно-боязливым (а вдруг и меня проймет). Не знал, как напомнить ей про обещанное, но Леля сама – кажется, без повода – об этом со мной заговорила:
– Представляю, сколько тетушка вам меня расхваливала и чем постаралась взять. Мне она сказала, что никто лучше вас не умеет слушать и понимать и что у вас, единственного, не бывает потом подмигиваний и намеков. Мне нужна такая надежная понятливость, ее давно не было – вот я на вас и набросилась.
Это не явилось вступлением, и вообще не вышло связного «признания», как я наивно надеялся, но много раз среди разговора мы возвращались к Лелиному прошлому, я наталкивал ее (не упустив ничего из рассказанного когда-то Катериной Викторовной) на различные случаи и отношения, Леля серьезно и подробно мне отвечала и действительно во всем была доверчивой и бесстрашно-откровенной.
Я уже не однажды слыхал о первом Лелином женихе – об его актерской работе и о судьбе – и давно заподозрил, что Катерина Викторовна многого не хотела досказать. Он теперь московская знаменитость, признанно умен, образован и как-то шире своей профессии, что в актерском кругу редко. В то же время говорилось не раз – я даже читал в чьих-то воспоминаниях – о его характере, мрачном, тяжелом, неврастенически-самодурном, о его ссорах и неприятных выходках. У меня – из-за Лели, из-за всего рассказанного Катериной Викторовной – давнее полусоперническое, полувлюбленное к нему влечение: не пропускаю ничего, что можно о нем узнать, и его имя в газетах мне кажется кровно-близким, точно имя любимого поэта или упоминание о России в какой-нибудь иностранной книге. Сегодня было приятно выложить Леле всё, что я о нем слыхал – и щегольнуть своей памятью, и осторожно показать, как много у нас общего. Лелину ответную разрозненную «исповедь» постараюсь соединить в одно, привести в порядок и возможно точнее передать:
Ознакомительная версия.