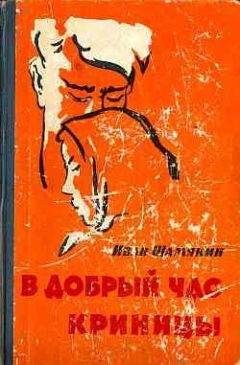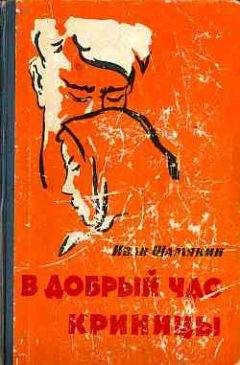Они не зашли в дом, так как увидели хозяина в саду. Сад начинался сразу же за сараем зарослями малины, густой и высокой, соблазнительно манившей крупными переспелыми ягодами. Кусты малины и крыжовника посажены были и вдоль боковой ограды, но там их заглушали вишняк и желтая акация, редкая в этом районе Белоруссии. Плодовые деревья росли посередине — старые раскидистые яблони и высокие груши. Прозрачный налив, восковой шафран, зеленая путинка, ребристая крупная антоновка, темно-красная «цыганка» и другие сорта яблок, которых Лемяшевич не знал и названия, так густо усыпали ветви, что чуть не под каждую была подставлена подпорка. Под яблонями расстилалась заманчивая тень. Так и тянуло лечь на зеленую, свежую, как ранней весной, траву. В конце сада виднелся дощатый шалашик, вокруг него в строгом порядке размещались рамочные ульи. Там и стоял Данила Платоиович, внимательно разглядывая рамку. У его ног поднимался легкий белый дымок — курился дымарь. Издалека было слышно, как гудят потревоженные пчелы. Пчелы звенели в воздухе над головами гостей.
— Подождите, пока закроет ульи, а то искусают, черти, — предупредил Орешкин, останавливаясь посреди сада. Увидев, с каким интересом Лемяшевич оглядывает владения старого учителя, он иронически заметил: — Поместье. А?
— Нет, просто хороший сад, каких у нас, к сожалению, мало еще, — ответил Лемяшевич.
Орешкин промолчал. Осмотрев еще две-три рамки, Данила Платонович закрыл улей, взял в руки дымарь и направился к шалашу. Они пошли ему навстречу. Старик вежливо поздоровался, снял шляпу. Он догадался, что пришел новый директор. Такое внимание к нему, «отставному учители», как он себя называл, не могло бы не тронуть его, если бы директор пришел один. Но Данила Платонович был уверен, что инициатива визита принадлежит Орешкину и привёл он директора не для того, чтобы их познакомить, а чтоб показать ему «кулацкое хозяйство». Шаблюк знал, как Орешкин при случае отзывался о нем.
А Лемяшевич, поближе приглядевшись к старому учителю, на миг растерялся. Ему показалось, что он уже встречал этого человека раньше. Только неуверенность в своей памяти — такая неуверенность свойственна многим — помогла ему сдержаться и не выдать своего удивления. Но как только Шаблюк заговорил, он твердо убедился, что так оно и есть — они встречались. И хотя было это десять лет назад, Лемяшевич отчетливо вспомнил и место встречи и обстоятельства. Старик с тех пор почти не изменился, только одет иначе. Тогда он был в лаптях, в штанах грубого, домотканого холста, крашенного в какой-то нелепый темно-зеленый цвет, — другой краски, верно, не было, — и в линялой, с заплатами на плечах и локтях, гимнастерке…
Орешкин познакомил их.
— Отлично, — сказал старик, пожимая руку, и непонятно было, к чему это относится — к новому ли директору или к чему-то совсем другому, может быть к своим каким-то тайным мыслям. Потом взглянул с некоторым интересом, более приветливо и спросил: — Как вам понравилась наша школа?
— Школа хорошая, но отремонтирована плохо, — отвечал Лемяшевич.
Орешкин криво, улыбнулся.
— Михаил Кириллович все меряет на городской аршин. А у нас — Криницы.
Он сказал это так, словно Криницы — что-то совершенно ничтожное, мелкое, не достойное внимания.
Шаблюк нахмурился.
— Да, у нас — Криницы! — совсем иначе, с уважением, с гордостью, повторил он. — И стыдно вам, молодой человек, что у нас такая школа. Довели! А я сам, вот этими руками, — он показал свои широкие, морщинистые и шершавые ладони, — строил её до войны. И какая была школа!
Теперь он обращался к Лемяшевичу, и глаза его под очками стали ласковыми. Лемяшевич с радостью увидел, что откровенные слова его о школе вызвали у старого учителя симпатию к нему, своему молодому коллеге.
— Стыдно учителю не любить свою школу! А вы, Виктор Павлович, уже не новичок, человек способный, а любить школу не научились.
Орешкин неестественно рассмеялся.
— Данила Платонович непрерывно меня критикует… Из уважения к вашему возрасту я молчу. А я мог бы кинуть камешек и в ваш огород… А?
— Не камешки надо кидать, а смело говорить правду в глаза. А у вас только смелости и хватает — из-за угла камень кинуть.
Орешкин смутился, он, должно быть, проклинал ту минуту, когда ему пришло на ум привести сюда Лемяшевича.
— Вы несправедливы ко мне, Данила Платонович, — сказал он обиженным тоном.
— Что ж мы стоим? Присядем, — гостеприимно пригласил вдруг хозяин и первым направился к лавочке, стоявшей в тени шалаша.
Усевшись, Шаблюк проговорил, должно быть отвечая Орешкину:
— Я в два с половиной раза старше вас.
Над их головами закружилась, зазвенела пчела. Орешкин испуганно замахал руками. А старик медленно провел рукой в воздухе, ласково сказал:
— Пошла, глупая!
И пчела, как бы услышав голос хозяина, послушно отлетела.
Данила Платонович спросил, женат ли Лемяшевич, и, получив отрицательный ответ, недовольно покачал головой:
— Поздно женится наша молодежь. Плохо. Моему старшему сыну уже пятьдесят лет. Полковник… Где же вы собираетесь жить, столоваться? — И, узнав, что у Степана Костянка, одобрил: — Хорошую семью вам выбрали. Счастливая семья, — и улыбнулся каким-то своим мыслям. — Видно, понравились вы Степану, а то — не любит он столовников.
— А я к ним с рекомендательным письмом от Журав-ских. Кстати, вам от них привет.
— Спасибо, спасибо. Даша — моя ученица. Где только нет моих учеников! — В голосе его прозвучала гордость.
Поговорили еще о том о сем, но настоящей душевной беседы не получалось. Чувствовали себя, как пассажиры, познакомившиеся в ожидании поезда. Орешкин нетерпеливо ерзал на лавке, выбирая удобный момент, чтоб попрощаться. Да, видимо, и хозяин тоже был не против того, чтоб скорее выпроводить непрошеных гостей, — он не тушил дымарь, а даже раза два нажал на мехи, выпустив на Орешкина клубы белого пахучего дыма. Но Лемяшевич и не собирался уходить, не поговорив о том, что его сейчас больше всего занимало.
Воспользовавшись паузой, он тихо сказал:
— Разрешите мне, Данила Платонович, рассказать один эпизод из моей короткой биографии. Сидел, знаете, вспомнил, и очень захотелось рассказать…
Орешкин поморщился.
Шаблюк несколько удивленно, однако с интересом посмотрел на молодого директора.
— В мае сорок третьего года одна партизанская бригада была блокирована у Днепра. Другая шла ей на помощь. Но недалеко от ваших мест, в районе Глинища, гитлеровцы навязали нам бой. Силы у карателей были большие, и бой затянулся. Тогда командование совершило маневр: оставив заслон продолжать бой, неожиданно повернуло главные силы бригады в другом направлении. Но, изменив маршрут, отряды попали в незнакомые нам болота. Надо было выяснить дорогу, найти проводника. Послали разведку — небольшой конный отряд, в котором, кстати сказать, был и ваш покорный слуга. По карте и по рассказам жителей нам предстояло одолеть непроходимое болото, тянувшееся на несколько километров. Из двухлетнего опыта мы знали, что непроходимых болот нет. Хороший местный проводник — и любое болото будет пройдено. Стали искать такого проводника… Деревня, как мне помнится, называлась Замостье…
Лемяшевич рассказывал спокойно, ровно, ни на кого не глядя, но в этом месте не сдержался, посмотрел на Шаблюка. Старик сидел молча, устремив взор в глубь сада. Орешкин зевнул.
— Мы выбили из деревни отряд полицейских… Это, как вы знаете, лучший способ доказать населению, запуганному провокациями, что мы действительно советские партизаны. После такой операции нетрудно найти связных местных отрядов. Но связные в Замостье оказались людьми комсомольского возраста и болота не знали. Однако они единодушно заявили нам: провести через болото может только один человек — их старый учитель. Мы пошли к нему. Оказывается, у учителя гостил его давнишний друг, с которым они лет сорок назад вместе начинали свой жизненный путь. Одним словом, учителя провели нас к самому Днепру… И как провели! Обойдя все вражеские заслоны, все опорные пункты. Добрых пятьдесят километров мы прошли за сутки, и наши проводники были всё время впереди…
Данила Платонович вдруг положил свою ладонь на руку Лемяшевича, взволнованно улыбнулся:
— Довольно. Дальше уже неинтересно.
Михаил Кириллович в свою очередь с благодарностью сжал руку старика.
— Да, дальше неинтересно. Я только упомяну еще об одной детали… Только потом нам стало известно, что оба учителя — связные той бригады, которой мы помогли прорвать блокаду и разгромить карателей.
Орешкин вскочил, даже перевернул дымарь.
— Данила Платонович! Да вы герой, оказывается! А молчали… Ай-ай, как нехорошо! А? Жили вместе, работали. И вы молчали… Да о вас поэмы надо писать!