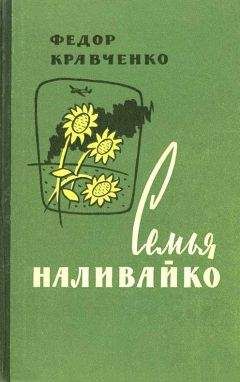Наконец настал день отъезда Анны Степановны. Прощаясь, она сказала:
— Если бы не Олег, я осталась бы с вами, ребята.
Она словно оправдывалась. Хотелось обнять ее и расцеловать, но я постеснялся это сделать при Нине.
Внезапно она сама сказала:
— Ну, Андрей, поцелуемся.
Я покраснел. Нина отвернулась, чтобы не видеть нас.
— Эх, молодежь! — сказала Анна и, не дав мне опомниться, быстро и крепко поцеловала меня в обе щеки. На глазах у нее выступили слезы. Однако, уходя, она весело проговорила: — После войны, ребята, мы с вами так еще потанцуем… Только воюйте крепко, чтобы война скорее окончилась.
«Только воюйте крепко, чтобы война скорее окончилась», — мысленно повторил я и посмотрел на Нину. Смущение ее прошло, она глядела на меня такими ясными и горячими глазами, что во мне кровь забушевала. Хотелось совершить необыкновенный подвиг. И, не скрою, хотелось, чтобы Нина гордилась мною.
Она доверчиво прижалась ко мне плечом; я почувствовал, что не выдержу и поцелую ее… Нина вдруг потянулась ко мне. В этот момент послышался шум самолета. Фашистские хищники снова налетели на нашу станцию. В поле, за водокачкой, уже громыхали фугасные бомбы. Я крикнул Нине:
— Иди в траншею… Быстрее же… Ниночка!
Она побежала в сторону скверика, где были вырыты траншеи.
Я направился к пожарному депо. Внезапно послышался визг бомбы, падающей с огромной высоты. Раздался взрыв. На меня посыпались комья земли, осколки стекла, обломки дерева… Я лег на краю насыпи, но ’в тот же миг меня подбросило взрывной волной. Бомбы рвались со всех сторон. Люди заметались на путях. Я кричал им, советуя лечь на землю. Я понимал, что опасность велика везде, но все же менее опасно лежать, прижавшись к земле: с одной стороны все же могла защитить насыпь.
Я радовался, что Нина успела залезть в траншею. Бомбы падали на железнодорожное полотно, у которого я лежал; скверик был далеко.
В воздухе стоял оглушительный грохот. Еще не обстрелянные, обезумевшие от страха люди продолжали метаться или ложиться на насыпь с обеих сторон. Среди них я вдруг заметил Нину. Она бежала в мою сторону, она искала меня. Я заставил ее лечь рядом… Она испуганно поглядела на меня и улыбнулась. Я понял: она радовалась, что я невредим. В это короткое мгновение я вдруг заметил то, что раньше не поражало меня: у нее были прекрасные белые зубы, живые, словно искрящиеся, голубые глаза… Эти глаза заставили меня забыть о себе, мне хотелось сохранить ее жизнь даже ценой собственной жизни. Я, как брат, обнял Нину и прикрыл своим телом, чтобы случайный осколок или камень не убил ее.
Огромный черный столб взметнулся в небо, и я почувствовал, как горячий воздух прижал меня к Нине; казалось, мы вместе с землей поднялись вверх и снова опустились. Потом я почувствовал страшный удар по голове, и все сразу исчезло. Мне показалось, что я падаю, проваливаюсь сквозь землю; я силился за что-нибудь ухватиться и не мог.
Сколько времени я пролежал без памяти — не знаю, но, по-видимому, я очень скоро пришел в себя. И первое, что мне бросилось в глаза, — это Нина, бегущая к вагону, на который упала зажигательная бомба. Она хотела потушить ее: ведь рядом стояла цистерна с бензином.
Я закричал что было сил: «Ложись!» Но в этот миг опять поднялся черный столб, рассеченный огнем. Стало темно. Гул и скрежет оглушили меня.
Я побежал к свежей воронке. Я искал Нину, забыв обо всем на свете. Я рыдал, разгребая землю руками.
На дне воронки лежало несколько дымящихся осколков; земля внизу также дымилась, влажная и горячая. Из-под земли, в том самом месте, куда я прыгнул, виднелись черные волосы. Я понял: это волосы Нины.
* * *
Фашистские самолеты улетели, сделав свое страшное дело. Кругом раздавались стоны, плач. Вместе с теми, кто остался в живых, я бросился тушить огонь, охвативший станционное здание. Я потерял очки и не видел всего, что делалось вокруг. Пламя, словно оранжевая птица, обрушилось на меня, и я потерял сознание.
Очнулся я в землянке, где, кроме меня и Кости, находилась жена Полевого с близнецами. Костя молча протянул мне маленькое зеркало. Я не узнал самого себя. Голова у меня была седая, как у матери.
Я почему-то решил бежать на станцию, но Костя остановил меня; он сказал, что станция уже занята немцами, а Полевой стал командиром партизанского отряда.
Мне обещали достать новые очки, но пока я должен был оставаться в землянке, связываясь с внешним миром только через Костю.
…Анна Степановна опоздала на последний поезд из-за того, что не знала, кому передать дежурство в сельсовете. Когда она могла наконец уехать, ей помешали дети Филимона Кирилюка. В поле она заметила пятилетнего мальчика, тащившего на себе годовалого брата. Сирот уводила бабушка, но ее ранило осколком снаряда, и она умерла посреди дороги. Старший мальчуган был также ранен, но он упрямо тащил братишку, стараясь уйти подальше «от выстрелов». Анна Степановна не могла их бросить, она задержалась с малышами. Что было дальше, Костя не знал; наступила ночь, и все потонуло в темноте. Но он не сомневался, что Анна Степановна погибла вместе с детишками.
Я весь горел.
— Почему же ты не помог? — спросил я Костю, чувствуя, как новая волна горя поднимается в моем сердце. — Ты же мог взять второго малыша. Ты же мог их спасти!
— Если бы я ушел с ними, меня считали бы дезертиром, — пояснил Костя.
— А так тебя будут считать мерзавцем, — сказал я.
Костя пожал плечами. Ему казалось, что он поступил правильно.
Несколько дней я почти не спал. Я не мог примириться с мыслью, что Анна Степановна погибла. Я был уверен, что партизаны приведут ее вместе с детьми а землянку, что они сделают то, чего не сделал Костя.
Но я напрасно ждал: Анна Степановна не появлялась, о ней никто ничего не знал.
Кажется, я схожу с ума. О чем я хотел еще рассказать? О крохотной планетке Адонис? Да, я фантазировал. Я путешествовал по вселенной. Забавная планета! Ее поперечник составляет всего лишь полкилометра.
Должно быть, у меня повысилась температура. Ишь ты, как расшалились нервы… А ну, Андрей, возьми себя в руки!
Костя назвал меня «допотопной барышней». Я ведь дневником обзавелся. Но мой дневник не только тайна моя. Это друг… Это для меня… инспектор государственного контроля…
Стой, Андрей! Вот здесь еще немного поплачь… Вспомни все, что произошло, и поплачь. А следующую страницу я тебе не позволю «кропить слезой»…
Прощай, Нина! Прощай, родная моя. Тебя смерть сразила, а я дальше пойду. Дальше!
…Эх, если бы мне добыть очки! Без них я все-таки беспомощный.
Тепло. Кажется, еще совсем лето…
На секунду отрываюсь от тетради. Нет, это уже осень! Но какой чудесный сегодня день! «Золотая осень», как у Левитана…
Клавдия увезла копию этой картины с собой. Многие вещи оставила, а ее забрала. Она ведь знает, что Максим влюблен в Левитана…
Значит, Клавдия верит, что Максим еще может вернуться к ней? Или это для нее «дорогой сувенир»?
Сувенир… Вот какими словами я щеголяю…
Как-то Людмила Антоновна сказала:
— Вот смотрю я на тебя, Андрюша, и диву даюсь. Я хоть и не старая, но все-таки помню твоего батю. Он был настоящим селюком-хлеборобом. А ты — интеллигент. И вся ваша семья какая-то интеллигентная. Посмотришь на вас и начинаешь понимать, что же произошло в нашей стране. Вот ведь и я не похожа на свою мать. Верно? Интеллигентной особой стала…
Высказалась и рассмеялась…
Бедная (и такая милая) «интеллигентная особа». Она чуть горбится оттого, что потолок висит над самой головой. У нее два сына, оба черноглазые, похожие на отца. Один из них живой, краснощекий, веселый; второй — вялый, он еще хворает. И все же он подражает брату — болтает ножками, ныряет головой в мягкую подушку, хотя делает это как-то неуверенно, словно раздумывая.
Почти целый год мы живем в землянке: я, Костя и Людмила Антоновна с близнецами.
Людмила Антоновна часто смотрит куда-то в угол, где сложены трофейные мины, и о чем-то думает. Глаза у нее большие, светлые; кажется, это у нее чужие дети, так непохожи они на мать.
О чем она думает — неизвестно, но в глазах ее скорбь. Однако стоит кому-нибудь из младенцев заплакать, как она преображается. Она склоняется над ними с нежной, ласковой улыбкой…
Ребята ползают по широкой деревянной кровати, как зверьки. В землянке горит коптилка, они не знают дневного света, и мне больно смотреть на них.
Один из них уже научился стоять, придерживаясь руками за спинку кровати. Целую минуту он стоит, глядя на мать, затем, потопав ножками, снова садится.
Спят они как бы по очереди. Смотришь; один уткнулся личиком в подушку, раскинул ножки с розовыми пухлыми пятками и спит; другой продолжает шалить.
С одним матери легче справиться.