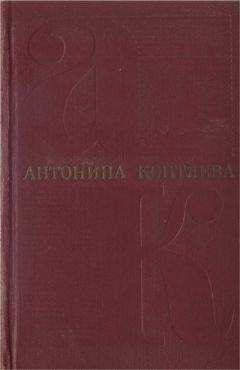— О чем ты задумалась, дорогая?
— Я слышала от одной очень развитой женщины, что человек в сорок лет уже не имеет перспективы духовного роста.
— Ну, это сказала развитая дура, вроде Павы Романовны!
— Погоди… Может быть, она права, имея в виду людей, ничем не проявивших себя до этого возраста. Но я смотрела на тебя и думала: ты в тридцать шесть лет живешь и чувствуешь моложе, чем я в двадцать восемь!
— Мне некогда стареть, дорогая! Именно перспектива роста (а она огромна) не дает ни остановиться, ни распускаться. Я занят и горю, живу своей занятостью. Оборвись она — оборвется лучшая половина моей жизни: я уже не человек тогда. А сейчас я счастлив, счастлив вдвойне: тобой и работой.
— А у меня никакой перспективы, хотя я еще совсем молодая.
— Но ты учишься! — возразил Иван Иванович, показывая на ее книги и тетради, сложенные горкой в углу дивана.
— Учусь, конечно. Однако после того, как я ушла с настоящей учебы — а ведь была уже на третьем курсе, — я начинаю все сначала в четвертый раз, и у меня уже нет убежденности, что я на правильном пути. Заполнит ли мою жизнь толкование иностранной грамматики? Конечно, это тоже нужное дело, и я буду стараться выполнять его хорошо. Только когда я представляю, как я сама обеднила себя, мне делается очень грустно.
— Значит, тебя привлекает что-то новое? — не сдержав невольной улыбки, спросил Иван Иванович.
— Почему ты говоришь со мной, как с глупенькой девочкой? — резко перебила Ольга, обиженная его тоном. — Ведь речь идет не о выборе дамских побрякушек, а о работе, которая у тебя, например, так счастливо сложилась, что составляет лучшую половину твоей жизни. Я не такая способная и умная, как ты, но в меру своих сил и я хотела бы иметь хоть немножко такой счастливой занятости.
— Кто же тебе мешает? — уже серьезно спросил Иван Иванович.
— Никто не мешает, но никто и не помог. Зачем я потеряла год в медицинском институте, зачем меня потащило на курсы бухгалтеров?.. Просто кидалась очертя голову куда попало. Конечно, выучиться всему можно, но если это не интересует, то лучше не надо. — Тут Ольга сообразила, что говорит словами Таврова, но, не в силах остановиться, закончила так же: — Работу не обманешь: ведь это выбор на всю жизнь.
— Значит, я виноват, что не помог тебе выбрать специальность? — спросил Иван Иванович, подавленный упреками.
— Да! Конечно, ты был очень занят… Поэтому благодушно отнесся к моему уходу из института, когда у нас родился ребенок. Почему ты не настоял, чтобы я закончила тот, свой, институт?
— Ты ведь сама ушла…
— Этой самой едва исполнилось тогда двадцать лет. Ей казалось: у нее впереди целая вечность и она все успеет сделать. А ты старше был и опытней, но не нашел ни времени, ни настроения по-товарищески побеседовать со мной, подсказать, посоветовать. Наоборот: ты тоже оправдывал свою женушку, ссылаясь на ее обязанности матери. Пусть бы нам жилось труднее, пусть прибавилось бы забот и хлопот! Не надо было жалеть меня тогда!.. Ну, если бы твоя младшая сестра бросила учиться, неужели ты не поговорил бы с ней? На работе-то вы помогаете отстающим, а кто с ними должен заниматься дома, в семье?!
23
Ольга отложила в сторону карандаш и тетрадь, в которую выписывала незнакомые термины из научной работы английского нейрохирурга. Перевод подвигался успешно, но Иван Иванович ни разу не спросил о нем.
«Если он хотел просто занять меня, то надо же хоть изредка поинтересоваться, как идет дело, — подумала Ольга. — Правда, он немного потерял, забыв о своем задании. Мне кажется, этот автор полагает, что наука не существовала до его мудрого сочинения. Жаль, что я плохо разбираюсь в вопросах медицины… Однако здесь явно чего-то не хватает. Чего же?» Ольга закусила губу, стараясь сосредоточиться, но почему-то в ее памяти всплыло смуглое лицо Платона Логунова и сдержанные, энергичные движения его крупных рук (в последнее время Ольга не пропускала ни одного политзанятия, которые он проводил с активом).
— При чем тут Логунов? — сказала она вслух, уже улавливая возникшую у нее мысль. Представление о Логунове живо напомнило Ольге ее интересы во времена студенчества и дальнейшей беспорядочной учебы. — Училась! Считалась способной.
«Что за этим лбом Аристотеля?» — сказала однажды преподавательница математики, легонько постучав согнутым пальцем по высокому, выпуклому лбу девушки. «Пустота!» — весело пошутила тогда сконфуженная и польщенная Ольга.
— Пустота! — с горечью промолвила она, сосредоточенно всматриваясь в лежащий перед нею научный труд. — Но все-таки и я вижу: мистер не прав. У него человеческий мозг не одно прекрасное целое, не материя, способная мыслить, а просто нервная ткань, где он распределяет разные центры, управляющие функциями нашего тела. — Ольга припомнила, что говорил по этому поводу сам Иван Иванович. — Да, он ничего не потерял, забыв об этой книжке, но обо мне-то не следовало бы забывать! Я, конечно, закончу перевод и преподнесу его Ване с поучительным автографом. Вот так же мимоходом он уговорил меня пойти в медицинский институт, когда подросла дочка. Другого института в том городе не было, а подходило мне такое или нет, мы оба не подумали.
Неожиданно Ольге стало стыдно. Она свободная советская женщина, почему же ей требуется какой-то толчок со стороны? Разве она не может решать самостоятельно?
«А зачем тогда семья? К кому обращаться за советом и помощью?»
Ольга собрала со стола свои книги, поставила на место пишущую машинку Ивана Ивановича и разложила по порядку его бумаги.
«По-своему он прав, желая видеть меня медиком. Это было бы прекрасно, если бы отвечало и моим наклонностям!»
Раньше, при жизни ребенка, ей не приходили в голову такие горькие мысли о любимом человеке. Ребенок все заполнял и скрашивал. Ольга вспоминала болезнь дочери, ее смерть… Сколько дней и ночей, которые надрывали сердце.
Боясь заплакать, Ольга торопливо вышла из комнаты. Далеко за поселком серела среди зелени изогнутая лента шоссе, уходившая в горы. Окрашенный закатом воздух, прозрачный и красноватый, заполняя долины, смягчал резкие очертания гор.
По гладкой тропинке, протоптанной в траве, Ольга перебежала на крыльцо Хижняков.
Их большая комната тоже залита розовым светом. Окна открыты настежь — рассада теперь высажена в грядки. Елена Денисовна уже вернулась с работы и ощипывает уток у стола, заляпанного кляксами чернил, где мальчишки готовят уроки. Ее пестрый фартук и белые руки до рукавов, закатанных выше локтей, облеплены птичьим пухом. Даже на лбу и на румяном подбородке светлеют пушинки.
— Почему вы не позвали меня? — сказала Ольга с упреком.
Она сняла с гвоздя свой фартук, подсела к столу и, выбрав самую крупную утку, начала ощипывать с нее сизое оперенье.
— Ну, какова дичь? — весело спросил Иван Иванович, входя вместе с Хижняком (они охотились на зорьке: отстреливали на ближнем озере селезней, одиноких в начале лета).
— Хороши. Точно домашние! — ответила Елена Денисовна, взвешивая на ладони тяжелую птицу.
— Тут есть маленький! — Ольга посмотрела на мужа, явно довольного проведенным днем.
— Это чирок, — пояснил Иван Иванович.
Он прошелся по комнате, глянул на забытое гаданье, разложенное женой Хижняка.
— Елена Денисовна, а какой я?
— Лучше всех… — отозвалась та, доставая с полки кастрюлю.
— Нет, по масти, по картам?
— Трефовый король.
— Трефовый? Скажите пожалуйста! И король! Не хотите ли вы попросить о чем-нибудь короля?
— О чем же, в самом деле? — серьезно загадала Елена Денисовна. — Разве ведро воды принесете?
24
Иван Иванович и Ольга спустились к роднику вдвоем, как в первый день ее приезда.
Ольга оперлась рукой о край низкого сруба и наклонилась над колодцем. Упавшие с плеча волосы мягким крылом завесили ее лицо. Она зачерпнула воды, успев перед этим рассмотреть каменистое дно, и быстро выпрямилась, но мокрая дужка выскользнула от резкого рывка из ее пальцев.
— Что, Оля? — спросил Иван Иванович, оборачиваясь на шумный всплеск.
— Я утопила ведро!
Она, смеясь, отряхнулась, присела на край колодца и палкой, похожей на багор, стала ловить дужку ведра.
В заходившей кругами воде заколыхалось отражение зеленых ветвей и в просветах между ними красноватое небо, а у стенки сруба задрожали белое платье, светлые волосы и протянутая голая рука с палкой-удочкой.
— Так я, маленькая, однажды ловила рыбу в какой-то яме, — сказала Ольга, задумчиво улыбаясь. — Вот так же тепло было и свежо, пахло влажной землей и зеленью. Тогда дождь прошел, и я убежала из дому босиком… До чего приятно оказалось бегать по лужам! А потом меня отшлепали в первый раз в жизни. И я плакала навзрыд, но, помнится, не потому, что больно побили, а потому, что жалела испорченное настроение. Смешно, правда?!