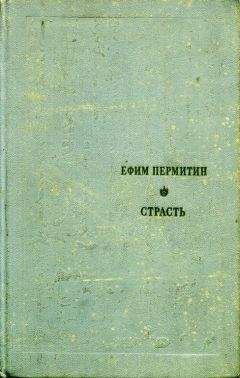Не могу не привести хотя бы краткую выдержку из несравненных «Записок»:
«…я дрогнул в седле.
В острове в один миг, как будто упавшая в пропасть, взревела стая. Но что это были за звуки! Это был не взбрех, не лай, не рев — это прорвалась какая-то пучина, полилась одна непрерывная плакучая нота, слитая из двадцати голосов: она выражала что-то близкое к мольбе о пощаде, в ней слышался какой-то предсмертный крик тварей гаснущих, истаивающих в невыносимых муках. Кто не слыхал гоньбы братовской стаи, тот может вообразить только одно: как должна кричать собака, когда из нее тянут жилы или сдирают с живой кожу…
Загудел рог с двумя перебоями… и вслед за тем голос этого колдуна повершил всю стаю:
— Слу-у-ша-ай! Вались к нему! Эх, дети мои! О-го-го-го!
Сам сатана, вселясь в плоть и кровь человека, не зальется и не крикнет таким голосом! Нет, буква мертва и не певуча для выражения этих, не для нее изготовленных, песен…
«Так вот он ловчий», — думал я и чувствовал, что меня треплет лихорадка.
— Слышал? — спросил меня Атукаев.
— Да… — протянул я, недоумевая, что сказать.
— Взгляни на Луку, — прибавил граф.
Я посмотрел на Бацова: сзади Алексея Николаевича, он утирал платком глаза.
— У-а! Вались к нему! У! — раздалось снова в болоте, и стая залилась еще зарче, пошла вразнобой, несколько голосов повели в нашу сторону.
Прямо на нас выкатил переярок…»
Талантливое описание псовых охот земельных магнатов крепостной России, разъезжавших целыми обозами с многочисленными слугами, с поварами и брадобреями по всей губернии, а многие даже и по соседним губерниям в горячий осенний сезон охоты из-под гончих со всеми их удачами, невзгодами и случайностями, в которых с какой-то непреоборимо-влекущей, притягательной силой проявлялось охотничье молодечество, — и до сегодня волнует сердце охотников.
Но, иные времена — иные песни. И совсем не важно, что у нас не было ни «оркестрово-подобранных, голосистых» стайпаратых гончих, ни атлетов-злобачей борзых, в одиночку берущих матерого волка, за которых нередко помещики отдавали по нескольку семей крепостных: противоестественным, диким казалось нам и самодурство самодержавного степного владыки, запарывающего псаря за не вовремя спущенного на зверя борзого кобеля.
Да, иные времена — иные песни. Знаменитый нэп, с шумными, многолюдными базарами, с буханками горячего белого хлеба, с поросятиной и гусятиной из пригородных деревень. С первыми хозяйственными и строительными дерзаниями молодой Советской республики.
А главное, главное, что и сами мы были молоды тогда. И все, за что бы ни брались мы, — все удавалось. Удавалось, может быть потому, что отдавались мы нашему делу не вполсилы, а во всю мочь неукротимого молодого азарта.
И лучшим из лучших, единственным, ни с чем не сравнимым отдыхом охотников была охота.
И наши скромные, однако по-своему также поэтические отъезжие поля до самозабвения увлекали нас.
* * *
Собрались у меня в тот же вечер.
Но прежде всего, — кто же мои спутники в отъезжих полях?
Двое из них, да не обидятся на меня мои земляки, лучшие из лучших охотники. И это не вольное мое определение. Нет, это признание всей нашей стрелецкой громады. А среди устькаменогорцев, где каждый третий считал себя достойным охотником, прослыть первоклассным, каковыми заслуженно прослыли шубник Иван Корзинин и слесарь Володя, — дело не такое уж легкое..
Владимир Максимович Напарников. — сосед и друг детства братьев Корзининых — из опасения, что женитьба свяжет, предпочел остаться холостяком. Ему двадцать восемь лет, а по понятиям устькаменогорцев это уже — безнадежный перестарок. По бедности — он пеш. Весь его достаток — «золотые руки» да тяжелая самодельная двустволка с длиннейшими стволами, которую злоязыкий озорной Митяйка Корзинин почему-то прозвал «единорогом». Братья Иван и Митяйка — шубники. У них свое кустарное шубное производство. За кройкой и пошивкой полушубков из выдубленных ими же овчин работает вся их семья. В обычное время, кроме осеннего сезона, их охоты — в теснейшей зависимости от основной работы. Есть досуг — они ярые охотники, нет — работа в вонючей землянке у чанов с выквашивающимися овчинами.
Но осенью охота властно отодвигает все их суетные житейские расчеты.
Братья — потомственные охотники. Отец их — высокий, жилистый старик Поликарп Мефодиевич — передал своим детям «дианину» страсть, охотничью смекалку, неуемность в ходьбе и отличное знание ближних и дальних угодий.
У Корзининых — откормленный на жмыхах и отрубях рослый гнедок мерин Барабан, приличная ирландская сука — Альфа. Старик Корзинин, при сборах нас в отъезжие, привлек мое внимание несвойственным уже его возрасту охотничьим задором, интересными рассказами о прежних своих охотах, дельными советами и напутствиями по маршрутам наших поездок.
— На Джакижаныче сделайте перьвую остановку: атайки, мелкой утвы — там невпроворот. А у аула Марсека — пробегитесь по сиверам: в шиповнике, в таволганах тетерева в обильности на́дорожатся. Мы без собак их там всегда ногами выпинывали…
Перьвые табунки дудаков, еще не доезжая Караузька, влево от дороги, по мелкосопошнику каждогод встречались…
И хотя охотничье время старика от нашего отделяло не одно десятилетие, советы Поликарпа Мефодиевича частенько помогали нам.
Любили мы и его всегда правдивые, с присущими только ему интонациями и жестами рассказы о незаурядной своей стрельбе и стрельбе своих товарищей по охотам: «Смотрю — ле́тит. Не лети́т, а ле́тит. И высоконько. Я накинул стволами — стри́лил — она оттуда с голком об земь, да так, что зоб лопнул!..»
Рассказывая, старик и стремительно выкидывал воображаемое ружье, и картинно представлял, как падала убитая птица.
— Удалей меня стрелял только неразливный дружок мой — плотник Василий Кузьмич Сухобрус. Левша, жердястый, длиннорукий, но несказимо дюжой в ходьбе и проворный в стрельбе. Бывало, налетит на него табун дудаков, а у него два патрона в стволах и один в руке. Накинет он насустречь стволами, стри́лит и раз и другой. Переломит, всунет патрон, да и вдогонь стри́лит. И как огнем — стрех самых крупных дрофичей сожгеть. Я было тоже пробовал, но у меня не получалось…
Старший из сыновей Иван — наш бригадир — женат, у него двое детей. Он в отца — подборист, по-охотничьи щеголеват. Сухоног. «Несказимо» (употребляя слова его отца) «дюжий в ходьбе». Казалось, он сплетен из одних выносливейших костей и мускулов. С такими же, как и у отца, небольшими, зоркими глазами.
Но не столь говорлив, а даже наоборот, как-то подчеркнуто строго сдержан. Иван любит больше слушать. А когда заговорит, для бригадирской убедительности в речь свою любит вставлять «учено-интеллигентные», как он их понимает, слова. С детства, с поездок с отцом за караульщика у палатки, позже за загонщика, он досконально изучил всю охотничью округу. Отличный стрелок, как и отец, Иван почти не знает промахов из своей тулки. И что особенно поражало меня, так это необычное его искусство стрелять в ночной темноте. Уже давно потухла заря. Темь — пальцев на руке не видно, охотники давно вернулись на стан, а выстрелы Ивана все гремят и гремят в лугах. И знаем — редким промахнется он.
Глаз у него кошачий — с поперечным зрачком — объясняли усть-каменогорские охотники навык Ивана «навскидку», по слуху и какому-то безошибочно-звериному чутью в темноте поражать стремительно летящую птицу.
Шестнадцатилетний, как и отец говорун, певун, веселый, озорной Митяйка на переломном возрасте. Но, несмотря на молодость, у него широкие плечи, юношески тонкий, гибкий стан. Во всей его фигуре, в каждом его движении ощущается родовое проворство, ловкость, ястребиная зоркость глаз. Митяйка горяч, как молодой, только что взятый егерем на выучку пойнтер.
На охоте он частенько «срывался». Как горячему пойнтеру, ему требовался «строгий парфорс». Этим «парфорсом» для него и был его подчеркнуто сдержанный, рассудительный старший брат.
За озорство, за горячность мы нередко дружески подтрунивали над ним. Митяйка не всегда огрызался, но по его лицу было заметно, что он досадовал.
Охотничье самолюбие развилось у него не по годам рано: «обстрелять» кого-либо из нас для Митяйки было заветной мечтой на каждой охоте. Выбрать, занять раньше других лучшее местечко во время пролета птицы Митяйка в грех не ставил. Правда, за это ему крепко попадало от брата, но он стоически переносил и брань и угрозы.
Зато как же сияло лицо самолюбивого паренька, как победительно сверкали озорные его глаза, когда, возвращаясь с зари на стан, он приносил хотя бы на одну утку больше кого-либо из нас!..
— Одноутробник, брат он мой, да разум-то у него свой: плутовства в нем, что репьев в овце, — не оберешь… — осуждающе говорил о младшем брате Иван.