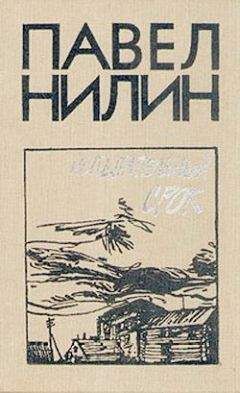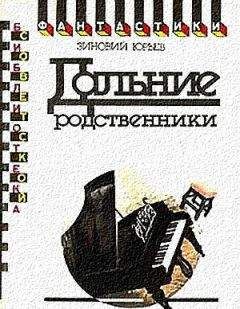Вера увидела бабушку, вернувшуюся из кухни, и умолкла.
— Словом, этот разговор сейчас ни к чему, — заключила Галя.
— А почему? — спросила бабушка, поставив на стол тарелку с орехами. — Я разве мешаю вам?
— Нет, что вы, Надежда Павловна! — смутилась Вера.
Все занялись орехами. Вера попробовала раскусить
орех зубами. Не удалось. Она взяла щипцы. Бабушка засмеялась.
— Не можешь, значит, Верочка, раскусить своими зубками-то? Не в силах? А ты погляди, как я делаю. — И прижала зубами орех. Орех сию же секунду щелкнул и раскололся. Бабушка положила его на ладонь. — Видела, Верочка? Значит, зубы у меня еще есть. Все налицо, по списку. Значит, я еще не такая старая, а ты меня жалеешь.
— Почему вы думаете, что я вас жалею?
— Жалеешь. Боишься, что я расстроюсь, если узнаю, что ты знаешь...
— Да я ничего такого не знаю.
— Нет, знаешь. Знаешь, что этот домик придется снести, и делаешь из этого секрет. Чтобы не расстраивать старуху. — Бабушка вдруг сердито прищурилась. — Да неужели, ты думаешь, я цепляться начну за этот домик во вред всеобщему делу? Неужели я буду, как буржуйка какая-нибудь, плакать, что вот, мол, пропадает моя собственность?
— Да он и останется вашей собственностью, этот домик, — сказала Галя. — Вам за него государство большие деньги уплатит. И вам в другом месте квартиру дадут, еще много лучше этой...
— Успокаиваешь? — сказала бабушка. — Да разве я на старости лет за всю мою трудовую жизнь заслужила такое, чтобы меня девочки успокаивали? Разве в деньгах дело? Разве я покой особый ищу? Да мы с мужем моим Ерофеем Кузьмичом всю жизнь во всех больших делах, какие были, участвовали. Неужели я теперь, после всего, вот в этом домике замкнусь и ничего вокруг себя не увижу?..
— Ну ладно, ладно, — сказал Ерофей Кузьмич, — будет тебе, Надея, непомерную гордость свою выказывать! Будет!..
— А что, разве я неправду говорю? — спросила бабушка. — Разве у нас с тобой, Ерофей Кузьмич, только и хватило силы, чтобы построить этот домик? Разве тут конец нашей силе?
— Нет, это еще не конец, — поддержал жену Ерофей Кузьмич. — Мы еще о тобой поживем, поработаем, Надея, поглядим на все...
— Вы, дедушка, хотели пойти со мной на Волгу, — напомнил Петя.
— Пойдем, Пётра, — сказал дедушка. — Пойдем. Я тебе сейчас покажу, что вокруг творится. А то, правда, засиделись мы тут...
Москва, февраль 1951 г.
Ах, как сладко, как томительно сладко пахнут травы на Жухарях!
Нонна Павловна вышла из поезда и, как в море, погрузилась в предрассветный туман, полный запахов и прохлады.
Поезд лязгнул, загремел и тяжело покатился дальше в темноту, тускло посвечивая окнами и мигая красным огоньком последнего вагона.
В этом последнем вагоне спит сейчас на верхней полке капитан Дудичев. А может, он и не Дудичев вовсе. И не холостой. Все мужчины любят прихвастнуть в поезде.
Впрочем, какое дело Нонне Павловне до этого случайного попутчика! Мало ли их! Правда, этот какой-то особенный. Он вчера принес из буфета бутылку портвейна, коробку шоколадных конфет, читал стихи, может быть даже собственные, играл глазами и два раза, чокаясь с Нонной Павловной, сказал: «За ваши творческие успехи!»
Он, наверно, принял ее за киноактрису. И немудрено. Прическа у нее самая модная. Капитан что-то такое говорил о ее волосах. Ну да, и в стихах было что-то такое про волосы: «Волос твоих стеклянный дым и глаз осенняя усталость». Конечно, это он сам сочинил. Наверно, тут же и сочинил. Занятный малый! И все оглядывал ее. Даже сказал, что ему всего больше нравятся полные блондинки. И опять в стихах это подтвердил, назвав ее интересной блондинкой.
Нонна Павловна представила себе, как он через час проснется в вагоне, поглядит с верхней полки сонными глазами, а ее нет. Он подумает, что она ушла умываться, подождет минутку-другую, а она все не идет и не идет. И не придет никогда. Он, может быть, сочинит стихи и по этому случаю, стихи о том, как ушла интересная блондинка. Ну да, интересная, все еще интересная...
Или, может быть, он тут же забудет про нее. Наверно, забудет. Встретятся новые пассажирки. Да и Нонна Павловна не станет горевать о нем. С чего ей горевать? Кто он ей такой? Просто попутчик, и все. Он едет дальше, а она вот уже приехала. В родное место приехала, где живут ее родные и ждут ее. Конечно, ждут. И должны встретить. Обещали. А как же иначе! Неужели она, как двадцать с лишним лет назад, пойдет пешком с этой станции в родное село?
Раньше это было просто — скинула бы башмаки, подоткнула юбку и пошла. Дорога знакомая, километров пятнадцать отсюда. А сейчас, пожалуй, смешно: снять лакированные туфли-лодочки, стянуть капроновые чулки с черной пяткой и шагать по грязи босиком, при этой прическе, как у Любови Орловой, и в этом цветастом легком платье из креп-жоржета! Деревенские мальчишки, чего доброго, засмеют.
Хотя зачем идти босиком? Можно достать из чемодана босоножки, да и вместо платья можно надеть сарафанчик. Досадно — не взяла старый сарафанчик. Этот все-таки фасонистый, в птицах, — по деревенской дороге в нем идти неудобно, да и босоножек жалко, их моментально испортишь в этакой грязи. Грязь тут, наверно, прежняя, непролазная.
Нонна Павловна одиноко стояла посреди перрона, не решаясь поставить кожаный чемодан на влажные доски. А чемодан тяжелый, в нем гостинцы, подарки. Неужели никто не встретит ее? Может, и телеграмму еще не получили? Пока здешний почтальон дойдет с ее телеграммой со станции до колхоза... Глушь, дикость! Никто, кроме Нонны Павловны, и не вышел из скорого поезда в этих Жухарях. Никому и дела нет до Жухарей.
Нонна Павловна опять подумала о капитане, который спит сейчас в поезде и, может, видит ее во сне. И ей показалось на мгновение, что все родное в ее жизни связано не с этой вот глухой, мало кому известной станцией, а с поездом, укатившим во тьму и насмешливо мигнувшим на прощание красным маленьким огоньком.
Да и станция эта, по правде сказать, не очень знакома ей. Ничего здесь не осталось от прежнего. Станционное здание раньше было деревянное, а теперь каменное. Перрон бетонный. Если б не вывеска «Жухари», можно было бы подумать, что Нонна Павловна ошиблась, не на той станции вышла.
Из предрассветного тумана проступает огромное узкое сооружение, на вершине его светятся неяркие огоньки. Интересно, что это за сооружение? Ах, ну, понятно, это элеватор. Он тогда уже строился...
Нет, ничего прежнего тут не осталось. Вот только запах трав, недавно скошенных, знакомый, родной и щемящий.
Нонна Павловна встряхивает пушистой головой и решается войти в станционное здание. Что ж делать? Она сейчас переоденется, наденет босоножки и пойдет в село. Не ждать же ей здесь утра, если она приехала в родные края! Ну, не встретили — и не встретили. Она не особенно и надеялась. Дойдет как-нибудь сама. Не больная.
И вот когда Нонна Павловна уже входила в здание, позади нее раздался голос:
— Настя! Настя, подожди...
Нонна Павловна остановилась. К ней приближался высокий, плечистый мужчина в кожаном пальто. Она не сразу узнала его.
— Здравствуй, Филимон, — наконец сказала она. И, оглядев, добавила: — Филимон Кузьмич.
— Здравствуй, Настя, — выдохнул он. Видно было, что он спешил, волновался. — Ты уж меня извини, Настя. .. Настасья Пантелеймоновна! Меня часы, понимаешь, подвели. Я испугался. Думал: а вдруг я тебя не захвачу? У нас тут не Москва — ни троллейбусов, ни такси нету. Добираться трудно...
Он левой рукой взял у нее чемодан, а правой деликатно притронулся к локтю Нонны Павловны и повел ее на привокзальную площадь.
«Умеет обойтись с женщиной, научился, — улыбнулась она про себя. — А был вахлак вахлаком».
— Настя, ну, скажи: сколько лет мы с тобой не видались?
Нонна Павловна смутилась.
— Не знаю... Я уж и счет потеряла. Лет, пожалуй, двадцать... с лишним...
— Да, пожалуй, не меньше.
Они вышли на площадь, где было еще темнее, чем на перроне. Горел одинокий фонарь, слабо освещавший длинное низкое строение — склад какой-то, тоже незнакомый Нонне Павловне, новенькие домики под железными кровлями и стену элеватора, стоявшего в стороне.
Под фонарем переминался с ноги на ногу привязанный к столбу вороной жеребец, запряженный в двухместную бричку. Свет фонаря падал прямо на его лоснящуюся, будто лакированную, спину.
— Я и забыла, когда на лошадях ездила, — сказала Нонна Павловна.
— Ты погоди, погоди, — взял ее спутник покрепче под руку. — Тут лужа. Как бы я тебя ненароком не искупал. — И покосился на ее лакированные туфли-лодочки. — К нам в таких башмаках не ездят...
«Нет, он все-таки мужик, — с досадой подумала Нонна Павловна. — Хотя Даша, помнится, писала, что на войне он был майором... Не сравнишь его с тем капитаном». И неожиданно для себя, как будто совсем некстати, спросила:
— Ты ведь, говорят, Филимон Кузьмич, был майором?
— Был, — подтвердил он, обводя ее вокруг лужи. — Закончил войну майором.