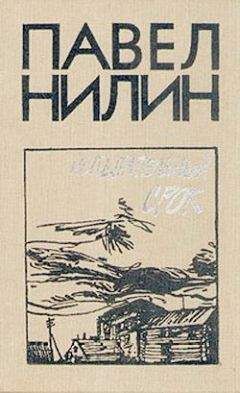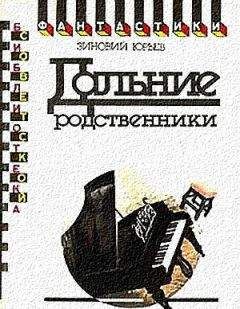— Ты ведь, говорят, Филимон Кузьмич, был майором?
— Был, — подтвердил он, обводя ее вокруг лужи. — Закончил войну майором.
— А начал?
— А начал обыкновенно — рядовым.
— О! — произнесла она почти восторженно. И, помолчав, сказала: — А все-таки ты опять вернулся в эти места...
— А куда же я вернусь? — удивился он. — У меня тут семья — жена, дети. И я сам изначальный крестьянин. Землероб. Было бы прямо-таки довольно смешно и глупо, если б я...
— Ну, это правильно, — перебила она и, чтобы перевести разговор, кивнула на фонарь: — Ас электричеством тут по-прежнему... не богато...
— Не богато, — вздохнул он. — Что-то плохо строится Зубовская гидростанция. Второго начальника сгоняют за неудовлетворительность...
Они подошли к бричке.
Филимон Кузьмич сперва уложил чемодан Нонны Павловны, потом, раструсив сено, стал усаживать ее, поддержал за талию и вдруг засмеялся, вспомнив:
— Ухаживал когда-то за тобой. А гляжу — и сейчас еще можно поухаживать. Дебелая...
— Ну, уж чего дебелого-то! — потупилась она.
Но ей было приятно услышать эти слова. Приятно и неприятно в то же время. Неприятно, что он с такой легкостью, без грусти, даже со смехом, вспомнил о том, что было.
А было все очень серьезно, печально, горько и ей и ему. И ему было, пожалуй, горше, чем ей. Конечно, ему было горше. Она помнит — и он, наверно, не забыл, — как они сидели ночью на взгорье, у реки, накануне ее отъезда из Жухарей. И вот так же одуряюще пахли скошенные травы. Он держал ее за руки крепко-крепко и все говорил, говорил. .. Нет, он не был вахлаком, как она подумала сейчас. Вернее — она тогда не считала его вахлаком. Он был простым, красивым парнем. Она любила его. Конечно, не так, как он ее. Он любил ее сильнее. Она помнит, как он тогда заплакал, в ту последнюю ночь, как горячие его слезы упали на ее холодные руки. Ночь тогда была прохладная. И ей было то жарко от его объятий, то вдруг холодно до дрожи. Он просил ее остаться, не уезжать. А она предлагала поехать вместе. И повторяла все одни и те же слова: «Не могу я загубить свою жизнь. Тем более я завербовалась. Ну что тебе, поедем вместе.» Но он вдруг сердито вытер слезы и сказал, как будто выступает в драмкружке, в пьесе из времен Парижской Коммуны: «Было бы прямо-таки смешно и глупо. Неужели я такой низкий человек, что ни с того ни с сего побегу в такое трудное время? Мне, во-первых, моя комсомольская совесть не позволяет..
И поднялся с травы, такой неожиданно гордый, словно и не плакал вовсе.
Однако он и не осуждал ее тогда. Он долго писал ей письма, звал обратно.
Она сперва отвечала ему. Потом переписка прекратилась. Или, может быть, его письма просто не доходили до нее. Она часто переезжала с места на место. Может, его письма затерялись. Но последнее письмо она хорошо помнит. Он писал: «Милая моя, вечно дорогая, просто драгоценная Настенька! Шлет тебе пламенный комсомольский привет и целует тебя на лету, по воздуху, в твои алые губы, если ты не возражаешь, неутешный твой друг Овчинников Филимон Кузьмич, для тебя же просто Филька-Филимон, как ты меня дразнила, когда мы были маленькими. Жизни нет без тебя, Настенька. Ни на кого и. глядеть не хотят мои печальные глаза...»
И вот он, должно быть, забыл все это. Все, должно быть, выветрилось из сердца до такой степени, что он способен теперь даже со смехом вспоминать про былые чувства: ухаживал, мол, когда-то за тобой, только и всего.
Это, конечно, неприятно Нонне Павловне. Это было бы неприятно, пожалуй, всякой женщине. Но в то же время всякой женщине, особенно когда ей под сорок, приятно слышать, что она все еще в той поре, когда за ней можно поухаживать, как он это грубовато сказал, укрывая ее плечи кожаным пальто.
Жеребец бежал навстречу рассвету. По обеим сторонам дороги белели каменные столбики и трепетали густой листвой толстоствольные тополя, которых раньше тут, помнится, не было. И белых придорожных столбиков не было.
И самая дорога была не такой прямой. Видно, ее заново наладили.
Нонна Павловна и Овчинников сидели рядом, тесно прижавшись друг к другу, — иначе в бричке и нельзя было сидеть. Но разговаривали они на самые отдаленные темы — отдаленные от их прошлого, от невозвратных дней юности, от той последней ночи на взгорье, у реки.
Похвалив жеребца за хороший бег, Нонна Павловна между прочим спросила:
— Ты, Филимон Кузьмич, работаешь по-прежнему... председателем?
— Нет, что ты! Я не председатель.
— А ведь был председателем. Мне Даша писала...
— Ну, это когда... еще до укрупнения колхозов. Я в «Красном пахаре» был председателем. А потом, когда мы укрупнились, выбрали другого...
— Кого же? Интересно...
— Бертенева Якова. Ты его не знаешь...
Нонна Павловна улыбнулась.
— Если ты на войне был майором и теперь не председатель, так ваш новый председатель, наверно, полковником был?
— Нет, зачем! — засмеялся Овчинников. — Наш председатель еще молодой. Он и на войне не был. Зоотехник он. Толковый паренек...
— А ты кем теперь работаешь? — спросила она.
— Я? Я — бригадиром. Вот сейчас тебя привезу, сдам с рук на руки, и надо на поля. Вечером уж мы с тобой всласть наговоримся...
Только теперь Нонна Павловна подумала, что разговор у них идет неправильно. Надо бы раньше всего спросить про сестру Дашу. Как она?
— Ничего, — ответил он. — Живем помаленьку, работаем. Ребята растут, учатся.
. — Старшей-то, Насте, кажется, шестнадцатый год?— прикинула Нонна Павловна.
— Восемнадцатый, — поправил Овчинников и, привстав, стегнул жеребца.
Стегнул, похоже, сильнее, чем хотел, и натянул вожжи так крепко, что жеребец вскинул передние ноги и перешел на галоп.
Из-под колес брички вихрем полетела не только пыль, но и щебень и крупные камни.
— Для чего такая скорость? — зажмурилась от ветра Нонна Павловна.
— Ничего. Пусть промнется, — сердито кивнул на жеребца Овчинников. — Пусть промнется, сытый, гладкий...
Все-таки воспоминания, должно быть, взгорячили Овчинникова. Он все привставал в бричке и, размашисто подстегивая коня, приговаривал:
— А ну, а ну, Буран! А ну!..
Только перед самым правлением колхоза Буран, как говорят шоферы, сбросил скорость. И тогда Овчинников, впервые поглядев прямо в глаза Нонне Павловне, сказал:
— Восемнадцатый год пошел с нынешней осени нашей Насте. Восемнадцатый. Столько, сколько тебе было тогда. Помнишь?
— Помню, — как виноватая, ответила Нонна Павловна.
— И похожа она здорово на тебя, — продолжал прямо смотреть ей в глаза Овчинников. — На вашу, словом, само-куровскую породу похожа.
— Это не очень хорошо, — несколько смущенно проговорила Нонна Павловна. — Дочка должна походить на отца. Тогда она будет счастливая. Есть такая примета...
— Ну, это мы поглядим потом, какая она будет по примете, счастливая или несчастливая. Это будет, однако, зависеть и от нее самой, — убежденно произнес Овчинников. — А пока она походит на тебя. Вылитая. И по обоюдному согласию мы назвали ее в твою честь Настей...
Нонне Павловне было почему-то неудобно сказать Овчинникову, что ее теперь зовут не Настей, что она даже в паспорте изменила свое имя. Отчество ей в паспорте не удалось переменить, но все-таки она величает себя не Пантелеймоновной, а Павловной. Так, пожалуй, красивее. Да и когда она могла бы обо всем этом сказать ему, если б даже захотела, — он ведь за всю дорогу не спросил ее, как она живет, как чувствует себя, где работает.
После какой-то странной вспышки, после внезапной горячности он умолк и молчал весь остаток пути.
— Ну вот, — сказал он, когда бричка остановилась у небольшого домика с высоким крыльцом, на котором — уже издали было видно — стояла женщина в малиновой кофточке.
Женщина эта проворно сбежала с крыльца и, заплакав, стала обнимать Нонну Павловну, еще не высвободившую ноги из брички.
— Настенька, родная, сестричка моя!—плакала женщина.
И не то чтобы Нонна Павловна не узнала сестру — она просто растерялась, увидев, что Даша совсем не такая, как думалось. Даша, оказывается, старенькая, и волосы с сединой, и лицо будто обгорелое, и кофточка не столько малиновая, сколько бурая, вылинявшая от стирки. Неужели нельзя было переодеться по случаю такой встречи? Или не во что переодеться?
Нонна Павловна обняла сестру и тоже заплакала.
— Ну вот, — повторил Овчинников, поглядев на сестер, вынул чемодан из брички, поставил его на крыльцо и, ничего больше не сказав, уехал.
— Ему на работу надо, — как бы извинилась за мужа Даша, вытирая слезы коричневой рукой.
А Нонна Павловна вытянула из-за выреза на груди маленький, с кружевами, носовой платочек и, приложив его сперва к своим глазам, стала вытирать глаза сестры.
Потом они вошли в дом, пахнущий свежеоструганным деревом, недавно вымытыми полами и нагретой известью, золой и глиной от протопленной русской печи. И хотя дома этого раньше не было, на Нонну Павловну вдруг от всех его стен пахнуло таким родным, давно знакомым духом, что слезы снова выкатились из глаз и повисли на ее красивых ресницах.