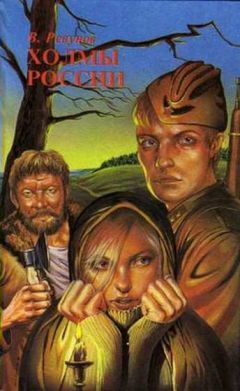Разодрал дернину, прижался лицом и дышал, дышал сыростью ее. На душе скорбно и тошно, как хворью сушило.
Не скоро конец, не скоро. День тяжел на войне, а месяц, а год? Такое и не представишь. На плахе поднялся топор — и все. А тут поднимается и рубит, рубит рядом.
Не твой ли черед?
Как облачко над пустыней уносит дождевое в зеленое, далекое, так и силы какие-то обнадеживали далеким — расшитым холстом белело и краснело нитями в траве на берегу. Кто же принес и положил? Да вот следы в росе, а чуть выше платок мелькнул. Печь топленная ждет, пышки масленые, и неведомое, чистое в утренних соснах, в сизых черничниках все в том же платке, и никак не уловишь, не остановишь, уже по лугу идет, за копной скрылось, и там только след.
В низине, в йодистом пару мертвенно сморкалась сажелка.
— Скрыть хотят! — проговорил Кирьян.
— Что скрыть?
— Младенца с мамкой!
— Танки!
Зарницы заметались, розовые, легкие в высоте, а понизу, в дыму, тускнели, как сквозь закопченное стекло.
Завздыхала над полями тяжкими раскатами артиллерия, и затрубили минометы.
В косых отсветах виделись танки, а казалось, один, словно его бросало огнем, все тот же танк черным пауком вползал в пламенеющие полосы.
Кирьян оглянулся. На той стороне танки с ударами пушек уже заходили за гребнем лощины. Пространство волнилось дымами и тьмой, и что-то говорили ракеты и, не договорив, падали, гасли с туманным сиянием: как по поверью, чья-то жизнь оконченная, повещая, падала па землю сгоревшей звездой.
Высоту будто колоколом накрыло: загудело оглушающе, покачало и развалилось. Рокотали моторы, похоже — работали в поле трактора. Шли танки, а за ними дымной мелью — пехота.
Кирьян снова оглянулся. Три танковых костра горели за гребнем лощины прямо напротив: было видно по огненной череде, как немцы скоро продвинулись. Они спешили занять ту сторону и движением здесь, на высоту, тянули крюк на дорогу.
Под горкой визжали и лязгали танковые цепи.
Земля под танками словно провалилась в огонь. И туда, в это пожарище, врывались смерчи. Среди пылавших машин дотлевала немецкая пехота.
Кирьян с резавшей в глазах землею, от которой травило и слепило слезами, полз и трогал солдат.
— Дружок, дружок.
Они лежали и неподвижно сидели в песке.
Здесь и на той стороне лощины чадили танки. Берега, с кострами во тьме, расплывались.
Какие-то тени сдвинулись.
«Немцы!»
Кирьян потянулся по песку за пистолетом. Серые острые лица окружили его и поволокли. Потом куда-то свалили и опять волокли в гаме и гуле.
«А-та-та-та», — гигантские голоса передавали гул друг другу.
Ужас ознобил Кирьяна: «Плен!»
Кошмар был страшнее смерти.
В темноте заворочалось, загорбилось — они в ушастых касках поднялись. С угрозой последний раз крикнули и показали куда-то. Вон куда… под берег. Там склоненное в платке и желтый младенец неподвижно и прозрачно улыбался.
«Смерть!»
«Нет здесь еще ниже, темнее смерти», — простонало из-под берега.
Двое в белых халатах — мужчина и молодая женщина — сидели перед входом в палатку.
В ельнике раненые ждали отправки.
Мужчина вышел покурить, а женщина вздохнуть прохладой.
Кирьян глядел в туманное половодье. Женщина подошла и накрыла его шинелью.
В эту предрассветным часом поутихшую ночь Кирьян вернулся на высоту Спустился в землянку.
За столом семейка солдатская.
На столе котелки с гороховым супом, с пшенной кашей, буханки хлеба и сахар в каске. На стенках висело всякое оружие, пистолеты в кобурах, автоматы немецкие и, как в шорной лавке, связка сапог.
Дверь раскрыта, было душно. Погребок освещался фосфорическим заревцем ракет, бродивших в небе, и было похоже — лунная ночь удалялась куда-то, в погребке темнело, и приближалось, словно кого-то искала, меркла безнадежно, вздрагивала — загоралась беспокойно.
Взводный сидел спиной к амбразуре — прохолаживало от нее ветерком — в вольно расстегнутой гимнастерке, без ремней: отдыхал, как распряженный конь.
Ели неторопливо. Много поворочали, пока тихо, можно и не спешить, и молчали: подавляла усталость, и раздумья водили в свои безвестные другим уголки.
Стремнов подставил к столу ящик, придвинул котелок с супом и, взяв ложку, раздул ноздри от вкусного духа.
За столом переглянулись.
Он ел всегда быстро. Дома пока еще рассаживались, а он уже готово-поел. Удочки на плечо и на речку: оставалась еще после самой тяжелой работы такая охота.
По поводу такой его быстрой еды отец как-то заметил: «Ты, малый, когда ешь, хоть смотри, а то я намедни брусок со стола не убрал — забыл, так ты его вместо хлеба зубами хряснул. А я за него рупь заплатил, да еще таких брусков здесь нету, привезенный!..»
Вот и пуст котелок, и еще коркой дочистил.
— А кто тут языком шевелил, будто бы Стремнов без сознания об танк ударился? Вон наворачивает, — сказал взводный. — Заградотряд ставь перед котелками. Что значит отдохнул.
— И с лица посвежел, — заметил сидевший напротив солдат Михеев. — А то копотью замаскировался, и не видать было. За ним взапуски бегал: опыт перенимал. Никак не пойму, с правой он руки или с левой бутылками с керосином танки немецкие морит?
Михеев ложкой намял каши в котелок, что-то вроде бы выбросил- какую-то соринку стряхнул, сказал:
— Каша-то с приправой, жареные осколочки попадаются. Несчастные эти танки не знали, куда деться от него, — попробовал кашу. — Чего-то в ней маловато? — насыпал в котелок раздробленного на кусочки сахара, перемешал. — Танк туда, а он бутылкой с керосином по затылку его, а все больше под зад — в моторную часть для жару. Ходу им никуда нет. На тот свет не хочется, отворачиваются от запаха. Танкисты из люков «стервеиь шнель», кто куда. Одного он кулаком убаюкать хотел, взял прицел, да промахнулся, сам так и рухнул на бугор.
Встал на колени, и бугор этот ему вроде бы подвинуть потребовалось. «Михеев, кричит, помоги. Я его слегка приподниму, а ты на спину бери, и отнесем. Да не туда лезешь. Давай на нашу сторону его». — «Готово, говорю, снесли». Успокоился. Санитары тут. Стремнов ногами вверх из земли торчит. Глядь, вот такая махонькая к нему подбегает и давай его выкорчевывать. А я лицом наружу — рядом лежу. Легче Стремнова, щепочка по сравнению с ним, ангел. Даже простонал я с улыбкой.
Никакого внимания. Словно на магнит какой, прямо к нему. Намекнул ей: я, мол, с тобой и сам дойду, дескать, заодно, и тебя бы донес. «У меня спецзадание», — отвечает. Пять пудов его и взяла, из последних сил надрывается. «Ой, доктор. Ой, доктор», — плачет, а тянет: спецзадание выполняет. Поразведал я, что за спецзадание такое. А оказывается, мечта: хоть одного его, строевого мужика, без царапинки и на память сохранить. А я удивлялся: чуть его тряхнет — сразу санитарочки с какого-то своего НП сигнал: покачнулся Стремнов! И к нему, какая поближе, а то не дай бог.
Михеев вспомнил про кашу, заворотил ложкой, а котелка-то и нет.
— Прости, — сказал Кирьян, пододвигая ему пустой котелок. — Проверил. Никаких осколков.
— Ничего, Стремнов. Ты больше ешь, поправляйся.
А то ежели один милкам на память останешься, в окружении и поесть не дадут.
Под бревенчатым низким навесом в яме, из которой брали когда-то глину для печей и горшков, теперь НП — Вихерт простоял всю ночь.
Панорама боя, среди траурной тьмы, прорываемой багровыми полосами и отблесками, смывалась рассветом. Темневшие низкие тучи вдруг явились далеко лесами. Над ними водянистой акварелью зеленелась заря.
Вихерт поднес к глазам бинокль. В кругах явились мертвые серые лица, ямы с желтым дымом, коптевшие танки остановились в моментах своего движения, будто чудища с широкими плечами и литыми затылками, из люков висели танкисты в черных куртках.
«Жизнь не дает ничего никому, только обман в разных чашах», — подумал Вихерт, утешая себя и погибших.
Долго разглядывал холмы по северу от дороги. Там русские. Что-то красное зажглось в стеклах. Вихерт выпустил бинокль. Сырой малиновый свет алым ядром трепетал. в горизонте.
За ямой, под невысоким склоном, Вихерт сел в коляску мотоцикла и в сопровождении автоматчиков тронулся в сторону Ельни через ржаное поле, и, когда свернули к дороге, увидел высоту — накренившееся поле с обрывами, и тут в отдалении почувствовал силу ее господства, какое-то притяжение; высота поворачивалась к нему, закрыла, как тучей, низкое солнце, и ту сторону словно бы охватило пожаром.
Они спустились в овражную низину за краем иссушенного поля с полоской полегшей охапками ржи.
В глубине овражка, где родник стекал из дубовой колоды, стоял в лозах автобус Вихерта.
Дягиль пресной сладковатой сыростью освежал впадину, зеленым льдом светили наполненные росой пазухи листьев.