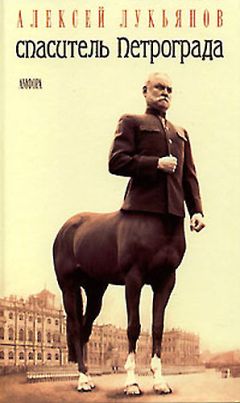Вот краткая и непостижимая для меня история «шпитонца», превратившегося в «старого мечтателя». Только потом, через много лет, я понял, как это получается у человека, сильного телом и чистого разумом. Такой пройдет через все испытания, придуманные и созданные подлецами, но сам никогда подлецом не сделается. Он только люто возненавидит подлость в самом даже малейшем ее проявлении, а сам останется честным и здоровым человеком.
13
На второе или третье утро каникул я зашел к отцу в его директорский кабинет, чтобы взять книгу, которую накануне вечером оставил там. Отец сидел за своим столом и брезгливо просматривал пачку каких-то очень потрепанных тетрадей. На меня он взглянул безразлично и рассеянно, как на кошку. Удивленный и слегка обиженный такой встречей, я взял книгу и пошел к двери.
— Постой, — сказал отец. — Это что?
Он ткнул в тетради. Я их сразу узнал:
— Как они к тебе попали?
— Неважно. С твоими учебниками валялись на подоконнике. Прости, что я прочел. Ты ведь прежде никогда не возражал.
Это правда, у меня никогда не было секретов, которые бы надо было скрывать от отца, и эти тетради, если бы он попросил, я бы сам отдал.
Дело в том, что в нашем железнодорожном комсомольском клубе почти ежемесячно устраивались спектакли. Пьесы мы признавали только революционные от начала до конца, а их было немного. И когда мы переиграли все, что могли достать, то взялись за освоение классического наследства, приспосабливая старые пьесы. Без всякого смущения мы сами вписывали созвучные эпохе монологи, заменяли героев нашими современниками; каждая пьеса заканчивалась восстанием, свержением тиранов и народным торжеством.
Переделывать пьесы приходилось мне, что я и делал с увлечением. Взялись мы за «Снегурочку». Помучился я тогда с белым стихом, которым написана пьеса, но зато, по общему признанию, получилось здорово. Твердо зная, что хороших царей не бывает, я превратил Берендея в пламенного революционера, а на трон возвел явного монархиста и угнетателя — Мороза, который держит в тюрьме солнце свободы и правды, заморозил революционно настроенную девицу Снегурочку и вообще страшно угнетает трудовое крестьянство. Кончается все очень хорошо: Берендей поднимает народ, свергает угнетателей, спасает Снегурочку и женится на ней. Восходит освобожденное солнце. «Все ликуют. Занавес» — так заканчивалась у меня рукопись пьесы.
— Все ликуют! Хм… — Отец двумя пальцами перевернул последнюю страницу. — Все. И ты, несомненно, тоже.
Никогда еще я не видел его таким растерянным. Сняв пенсне и моргая добрыми незащищенными глазами, он хотя и с грустью, но твердо произнес:
— Извините, дорогой товарищ, но это пошлость.
Я тоже растерялся и заморгал глазами, но не произнес ничего.
— Возьми это, — кивнул он на «приспособленную» «Снегурочку», — там в коридоре топится печка.
Взяв «это», я вышел в школьный коридор, пустовавший по случаю зимних каникул. Нельзя сказать, чтобы я был очень уж обескуражен. Кое-какие сомнения по поводу бесцеремонного обращения с пьесами у меня возникали и раньше, но всеобщее одобрение этой моей деятельности заглушало их. В конце концов я и сам поверил, что делаю общественно полезное дело. И вдруг — пошлость. Неужели сбывается предсказание Сони Величко: я — самый скучный актер в самой скучной пьесе. Скука — основа пошлости. Веселый человек не может быть пошляком.
В одну минуту огонь уничтожил следы моего не вполне понятного преступления, но приговор остался и с ним не разделаешься так просто. Тем более, приговор, вынесенный с такой грустной безнадежностью. Уж лучше бы он меня выругал. По крайней мере, тогда бы все было понятно.
Директорская квартира помещалась в том же здании, что и школа. В пустых, гулких классах было холодновато. И только в учительской всегда поддерживалась ровная температура и, кроме того, тут был удобный мягкий диван, на котором очень хорошо было устроиться с книгой, а при случае и вздремнуть, если, конечно, книга способствовала этому.
Вот здесь и застал меня отец. Он только что пришел откуда-то бодрый и оживленный.
— Ну и мороз! А ты все дома киснешь? — Заглянул на обложку книги: — А, «Кинелм Чиллингли». Нравится?
После того случая в кабинете прошло два дня. Я ожидал продолжения разговора, но «старый мечтатель» отмалчивался, а я все ждал, затаив обиду: пошляк — это уж слишком!
Я не ответил. Он внимательно осмотрел меня через пенсне.
— Хм. Значит, ты ничего не понял?
— Я не пошляк, во всяком случае.
— Допустим. — Он пошел вокруг большого стола. — Но то, что ты сделал, является величайшей пошлостью. Очень печально, если ты думаешь иначе.
Завершив круг, он остановился и сказал то, что запомнилось мне на всю жизнь:
— Нет на свете ничего беззащитнее, чем произведения искусства.
Расхаживая по учительской, он начал приводить примеры тупой расправы над картинами, статуями, уникальными зданиями и над людьми — творцами всего прекрасного или защитниками этого прекрасного от варварской расправы. Глаза его то скорбно темнели, то гневно вспыхивали, а глуховатый голос звучал ровно, как будто он читал обвинительное заключение.
Он начал от Герострата, ради скандальной славы поджегшего красивейший храм Дианы в Эфесе, упомянул о злодеяниях крестоносцев, Чингисхана, Наполеона и прочих завоевателей и, наконец, перешел к нашим отечественным варварам, уничтожающим памятники старины.
Сначала я слушал с недоверием, потом с интересом, но под конец почувствовал себя не очень удобно. Отец явно подбирался к моему бесчинству в Берендеевом царстве. Цепь позора, к одному концу которой был навечно прикован тупица Герострат, уже захлестывала меня другим своим концом. Этого я не выдержал.
— Да я-то ничего не уничтожил!
Отец согласился:
— Да, конечно. Тебе просто не под силу собрать все пьесы и бросить их в огонь. Но, подожди, выслушай до конца. Вот ты взял прекраснейшую сказку о народной мечте, и вместо того чтобы обрадовать людей, доставить им эстетическое наслаждение, внушать им гордость за талантливость нашего народа, ты подсовываешь им изуродованное неумной рукой творение великого русского мастера. Ты забрался в прекрасное Берендеево царство, каким я почитаю все русское искусство, и мелко там напакостил. Ты не обижайся, а подумай об этом.
Потом все это я понял, но в то время многое, что говорил мне отец, в том числе и Берендеево царство, где людьми правит высокое и простодушное искусство, где любовь считается благом, проявлением высокого человеческого духа, казалось мне чистейшим идеализмом. «Все это из прошлого, — думал я, — все это нам не подходит».
Конечно, ничего такого я отцу не говорил, потому что любил его именно за чистоту его души и за неизменно веселое отношение к жизни и к окружающим его людям. «Старый мечтатель», а ему в это время было 39 лет. Между нами только двадцать лет разницы.
14
А когда после каникул я снова вернулся в школу, то у меня было такое чувство, словно я попал в страну, из которой уехал так давно, что все перезабыл и теперь надо заново все узнавать и ко всему привыкать. Начиналась новая жизнь, совершенно не похожая на ту прежнюю, которая была до каникул. И от этого, наверное, мне казалось, будто я и сам стал другим, вырос, изменился и на все прошедшее и настоящее смотрю с высоты этого внезапного повзросления.
С таким чувством я вошел в интернат. Шел двенадцатый час ночи. Все мои однокашники спали, утомленные возвращением в полузабытую страну. Тепловатые домашние сны сиротливо витали в прохладном казенном уюте, отдающем запахом недавней санобработки.
Петькина койка пустовала. Заправленная по-казенному гладко, как никогда никому из нас не удавалось заправлять свои постели. Где-то он сейчас? Какая сила заставила его отступить? Соня? Она где?
Сраженный навалившимися на меня вопросами, я очень скоро уснул. Меня разбудил Петька. Он неподвижно сидел на своей койке и в упор смотрел на меня.
— Увезли Соньку, — проговорил он, и губы его искривились.
Похоже было, что он сейчас заплачет, а это очень скверно, когда раскисает такой большой и сильный парень. И к тому же мой друг. Я растерялся спросонок и не успел еще ничего спросить, а он уточнил:
— Вчера увезли.
Сейчас заплачет. Нет, кажется, смеется? Так и есть, Петька тихо смеялся в сонной тишине.
— В церковь повезли, венчаться. Меня увидела, отвернулась.
Сбросив одеяло, я наклонился к Петьке. Что за смех? Разыгрывает он меня, что ли?
— Сам все видел, — продолжал Петька, — шалью вся закрылась от стыда. А под шалью розы раскачиваются во все стороны.
Нет. Похоже, что все всерьез.
— Как она могла, комсомолка!
— Комсомолка? Ты слушай дальше. Ты главное слушай: она за попа замуж вышла. Тот абрек, он, оказывается, на попа учится. Сонька в попадьи пошла, а ты говоришь — комсомолка.