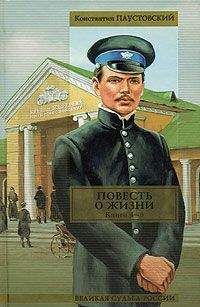бросайся! А то недолго и глаза тебе протереть!
— Господи, из-за цветов и то лаются! — вздохнула молодая женщина с грудным ребенком. — Мой муж, уж на что — серьезный, солидный, а принес мне в родильный дом черемуху, когда я родила вот этого, первенького.
Кто-то судорожно дышал у меня за спиной, и я услышал шепот, такой тихий, что не сразу сообразил, откуда он идет. Я оглянулся. Позади меня стояла бледная девочка лет десяти в выцветшем розовом платье и умоляюще смотрела на меня круглыми серыми, как оловянные плошки, глазами.
— Дяденька, — сказала она сипло и таинственно, — дайте цветочек! Ну, пожалуйста, дайте.
Я дал ей махровую гвоздику. Под завистливый и возмущенный говор пассажиров девочка начала отчаянно продираться к задней площадке, выскочила на ходу из вагона и исчезла.
— Совсем ошалела! — сказала кондукторша. — Дура ненормальная! Так каждый бы попросил цветок, если бы совесть ему позволяла.
Я вынул из букета и подал кондукторше вторую гвоздику. Пожилая кондукторша покраснела до слез и опустила на цветок сияющие глаза.
Тотчас несколько рук молча потянулись ко мне. Я роздал весь букет и вдруг увидел в обшарпанном вагоне трамвая столько блеска в глазах, приветливых улыбок, столько восхищения, сколько не встречал, кажется, никогда ни до этого случая, ни после. Как будто в грязный этот вагон ворвалось ослепительное солнце и принесло молодость всем этим утомленным и озабоченным людям. Мне желали счастья, здоровья, самой красивой невесты и еще невесть чего.
Пожилой костлявый человек в поношенной черной куртке низко наклонил стриженую голову, открыл парусиновый портфель, бережно спрятал в него цветок, и мне показалось, что на засаленный портфель упала слеза.
Я не мог этого выдержать и выскочил на ходу из трамвая. Я шел и все думал — какие, должно быть, горькие или счастливые воспоминания вызвал этот цветок у костлявого человека и как долго он скрывал в душе боль своей старости и своего молодого сердца, если не мог сдержаться и заплакал при всех.
У каждого хранится на душе, как тонкий запах лип из Ноевского сада, память о проблеске счастья, заваленном потом житейским мусором.
Во время скитаний по окраинам Москвы и по Ноевскому саду я уходил в ту зону тишины, что так неправдоподобно близко окружала город. Эти уходы среди оглушительных событий были понятны. Ведь события не успевали последовательно сменять друг друга, а накапливались по нескольку за день.
Обыкновенная жизнь существовала рядом, почти в нескольких шагах от величайших исторических дел. В этом тоже была, должно быть, своя закономерность.
Мятеж
На пустой сцене Большого театра стояла декорация Грановитой палаты из «Бориса Годунова».
Стуча каблуками, к рампе подбежала женщина в черном платье. Алая гвоздика была приколота к ее корсажу.
Издали женщина казалась молодой, но в свете рампы стало видно, что ее желтое лицо иссечено мелкими морщинами, а глаза сверкают слезливым болезненным блеском.
Женщина сжимала в руке маленький стальной браунинг. Она высоко подняла его над головой, застучала каблуками и пронзительно закричала:
— Да здравствует восстание!
Зал ответил ей таким же криком:
— Да здравствует восстание!
Женщина эта была известная эсерка Маруся Спиридонова.
Так мы, журналисты, узнали о начале мятежа левых эсеров в Москве. Этому предшествовали многие события.
Шел съезд Советов. Пожалуй, никто не был в лучшем положении на съезде, чем журналисты. Их посадили в оркестр. Оттуда все было великолепно видно и слышно.
Из всех ораторов я хорошо запомнил только Ленина. И не столько запомнил содержание его речи, сколько его движения и самую манеру говорить.
Ленин сидел у самого края стола, низко наклонившись, быстро писал и, казалось, совершенно не слушал ораторов. Были видны только его нависающий лоб и по временам насмешливый блеск скошенных на оратора глаз. Но изредка он поднимал голову от своих записей и бросал по поводу какой-нибудь речи несколько веселых или едких замечаний. Зал разражался смехом и аплодисментами. Ленин, откинувшись на спинку стула, заразительно смеялся вместе со всеми.
Он говорил, а не «выступал», очень легко, будто разговаривал не с огромной аудиторией, а с кем-нибудь из своих друзей. Говорил он без пафоса, без нажима, с простыми житейскими интонациями и слегка грассируя, что придавало его речи оттенок задушевности. Но иногда он на мгновение останавливался и бросал фразу металлическим голосом, не знающим никаких сомнений.
Во время своей речи он ходил вдоль рампы и то засовывал руки в карманы брюк, то непринужденно держался обеими руками за вырезы черного жилета.
В нем не было ни тугой монументальности, ни сознания собственного величия, ни напыщенности, ни желания изрекать священные истины.
Он был прост и естествен в речах и движениях. По его глазам было видно, что, кроме государственных дел, он не прочь поговорить в свободную минуту о всяких интересных житейских делах и занятиях, — быть может, о грибном лете или рыбной ловле или о необходимости научно предсказывать погоду.
На съезде Ленин говорил о необходимости мира и передышки в стране, о продовольствии и хлебе. Слово «хлеб», звучавшее у других ораторов как отвлеченное, чисто экономическое и статистическое понятие, приобретало у него благодаря неуловимым интонациям образность, становилось черным ржаным хлебом, тем хлебом насущным, по которому истосковалась в то время страна. Это впечатление не ослабляло значительности речи и ее государственной важности.
На съезде Советов в боковой ложе сидел германский посол граф Мирбах — высокий, лысеющий и надменный человек с моноклем.
В то время немцы оккупировали Украину, и в разных ее частях вспыхивали, то разгораясь, то затихая, крестьянские восстания.
В первый же день съезда слово взял левый эсер Камков. Он прокричал гневную речь против немцев. Он требовал разрыва с Германией, немедленной войны и поддержки повстанцев. Зал тревожно шумел.
Камков подошел почти вплотную к ложе, где сидел Мирбах, и крикнул ему в лицо:
— Да здравствует восстание на Украине! Долой немецких оккупантов! Долой Мирбаха!
Левые эсеры вскочили с мест. Они кричали, потрясая кулаками. Потрясал кулаками и Камков. Под его распахнувшимся пиджаком был виден висящий на поясе револьвер.
Мирбах сидел невозмутимо, не вынув даже монокля из глаза, и читал газету.
Крик, свист и топот ног достигли неслыханных размеров. Казалось, сейчас обрушится огромная люстра и начнут отваливаться со стены театрального зала лепные украшения.
Даже Свердлов своим мощным голосом не мог справиться с залом. Он непрерывно звонил, но этот звонок слышали только журналисты в оркестре. До зала он не доходил, остановленный волной криков.
Тогда Свердлов закрыл заседание. Мирбах встал и медленно вышел из ложи, оставив газету на барьере.
Через театральные коридоры невозможно было протиснуться. Охрана распахнула настежь все двери, но все же театр пустел очень медленно.
Накал дошел до того, что каждую минуту можно было ждать столкновений и взрывов. Но остаток