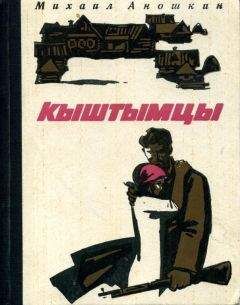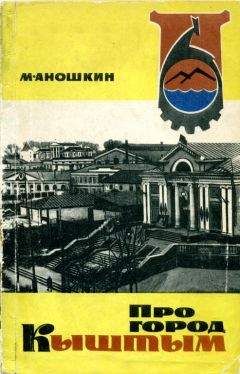Юлиан Казимирович основательно прослушал больного. Екатерина Кузьмовна глядела на него с великой надеждой — что скажет? Но доктор посмотрел на нее хмуро и потребовал оставить его наедине с больным. Екатерина Кузьмовна обиделась, но ушла, плотно прикрыв дверь.
— Милостивый государь, — сказал строго Юлиан Казимирович, — вам надобно лечиться и немедленно. Желательно начать сию минуту.
— Извините, доктор, но это невозможно…
— Что значит невозможно? — сверкнул очками Юлиан Казимирович. — Это же в ваших интересах! Я с вами откровенен, ибо вижу, что вы человек сильный, одно из двух — либо вы лечитесь, причем основательно, либо…
— Не надо, доктор. Поймите правильно — сейчас я не могу.
— На что вы рассчитываете?
— Во всяком случае не на бессмертие, — улыбнулся Борис Евгеньевич. — И не считайте меня сумасшедшим. Я люблю жизнь и готов выполнить любое ваше требование, но разве вы не видите, что происходит?
— Допустим, но на недельку вы могли бы отвлечься от всех забот?
— На недельку? А что это даст?
— Утихнет воспалительный процесс.
— Ну, если на недельку…
Уходя, Юлиан Казимирович сказал:
— Вы для меня самый непонятный пациент, каких я только знал в своей практике. А она у меня, поверьте, солидная.
…Ульяна, узнав о болезни Бориса Евгеньевича, загрустила, посматривала на всех искоса, будто осуждала. Особенно Михаила Ивановича Мыларщикова, который ездил со Швейкиным на съезд. Вроде он виноват в том, что привез Бориса Евгеньевича оттуда совсем больным. От ее косых сердитых взглядов он чувствовал себя неловко. Наконец Михаил Иванович не выдержал и заявил:
— Ну, вот что, девка, ты на меня, как на татя лесного, не смотри! Скумекала?
— Да вы чо? — удивилась Ульяна. — Вам поблазнилось, Михаил Иванович.
— Поблазнится… Ишь глазища-то у тебя какие!
— Скажете тоже… — смутилась девушка и с этой поры вообще перестала замечать Мыларщикова, будто его и не существовало.
«И чего она на меня взъелась? — терзался он. — Вроде худых слов ей не говорил. А как приехал из Катеринбурга, так девка чего-то дурит. Постой, постой… — стукнул себя по лбу Мыларщиков. — Так ведь… Эге! Тю-тю! Она же в нашего Бориса никак…»
Ульяна порывалась сходить к Швейкиным, но робость удерживала, ох уж эта робость! Всегда появляется не ко времени. Встретила Шимановскова, длинновязого поляка, с белыми бровями на усмешливом лице, в смешных желтых сапогах-крагах. Фамилия его Шимановский, кыштымцы ее на свой лад переделали. И стал он Шимановсков. Она знала, что Шимановсков был дружен со Швейкиным еще в Сибири, да и в Кыштыме жил недалеко от Бориса Евгеньевича и часто бывал у него.
— Послушай, Вася, ты видел Юлиана Казимировича у Швейкиных? Что он сказал?
— А что он мог сказать? Приходи, говорит, ко мне вечером, есть у меня заветная склянка коньяку или спирту, выпьем и споем наши польские песни. Да прихвати с собой паненку.
— А еще что он сказал?
Шимановсков понимающе улыбнулся:
— Не ведаю. Вот чего не ведаю, того не ведаю. Слышал одно: Борис сильный. Я и без него это знаю. Собственными глазами видел, как он ходил на медведя с рогатиной. Я сидел в избе, целый день дрожал от страха только от мысли: как это он там с медведем вдвоем? А Борис даже и глазом не моргнул, вот какой это человек.
— Ну тебя! — сказала обидчиво Ульяна. — Вечно ты со своими сказками!
— Езус Мария! — воскликнул Шимановсков. — Не говори так!
Но Ульяна уже не слушала его. Ее охватила жажда деятельности. Она принялась создавать уют в кабинете Швейкина. Принесла пунцовую герань, шторки-задергушки. Взялась драить пол. Скоблила его ножом — грязи натаскали! Потом, подоткнув юбку, развезла на полу мокроту — чистоту наводила. Принесла нелегкая Дуката. Влетел в кабинет без спроса, в сапожищах. Ульяна ойкнула, одернула юбку и выпрямилась. Спросила сердито:
— Вам чо?
Дукат глянул на свои грязные сапожищи, попятился, смущаясь тем, что оставил на чисто выскобленном и вымытом полу грязные следы. У двери задержался и, уже одолев смущение, окинул цепким взглядом кабинет. Он теперь напоминал смесь кабинета с горницей в доме среднего достатка. Ульяна, стоя с мокрой тряпкой, простоволосая и одетая по-домашнему, в галошах на босу ногу, ожидала, что Дукат похвалит ее за чистоту и уют. А он иронически улыбнулся, качнул головой и спросил:
— Ты всерьез считаешь, что эти новшества он примет? — имея в виду Швейкина.
— А чо, разве плохо?
— Да это же мещанство, Уля! Эта герань и задергушки! Здесь же боевой штаб кыштымской революции, а ты разные буржуазные финтифлюшки заводишь.
— Коли штаб, так пусть в грязи тонет?
— Извини, этого я тебе не говорил. Я про герань, а чистота должна быть, это бесспорно. И напрасно принимаешь близко к сердцу, я же не в обиду. Что Борис Евгеньевич? Что-нибудь слышно?
— Не слышно, — дерзко ответила Уля. — Я сама хотела вас спросить.
— Ну, ну, не надо сердиться, на сердитых воду возят.
Дукат удалился, вставая на цыпочки, словно боялся кого-то разбудить. И смешным он ей показался — в кожаной тужурке, в галифе, такой серьезный и солидный, а крадется на цыпочках, как маленький. Она улыбнулась, хотя в глазах поблескивали слезы — нет, она не умела долго сердиться. Затерев следы, оставленные Дукатом, продолжала мыть пол. Но появился Алексей Савельевич Ичев. Просунул седую голову в дверь и спросил:
— Нетути?
— Хворает он.
— Ах ты, Якуня-Ваня! И Мыларщикова нетути?
— Сегодня не видела.
— Вот напасть-то. Мне позарез нужно повидаться. Да вот не знаю, где живет. А тебе, вижу, некогда.
— Пошто некогда? Я уже. Обождите минутку.
Ульяна быстро домыла пол, убрала утварь, спрятала галоши и надела боты.
…Ичев и Ульяна пробирались Большой улицей. Лужи да ручьи преграждали дорогу. Солнце плескалось в талой воде, прыгало зайчиками по окнам повеселевших изб, слепило глаза.
Шли молча. Ичева угнетала своя дума, да и на разговоры он был не больно прыткий. Знавал он Улькиного отца, Ивана Михайловича Гаврилова. Ульяну видел еще в зыбке. Лукерью, мать девушки, только намедни встречал — болеет что-то старуха. Ульяне бы поспрошать, зачем Савельичу потребовался Мыларщиков, да робеет. Еще Ульяна думает о словах Дуката, и ее снова одолевают сомнения: штаб кыштымской революции и герань! Может, в самом деле убрать?
Дом у Мыларщиковых чуть на косогоре: окнами на Озерную, а боковой глухой стеной — на Нижегородскую. Два рыжих мальчугана строили на ручейке мельницу. Из камней и грязи сотворили плотину, а теперь ладили колесо. Что-то у них не получалось. Старший — Назарка — то и дело покрикивал на брата.
— Отец дома? — спросил ребят Савельич.
— Нету тятьки, — выскочил вперед Васятка. — На конях с Кузьмой ускакали.
— А тебя как зовут-то, пострел?
— Василь Михалыч.
— Гляди-ко! — удивился Ичев. — А я и не знал.
В это время открылась калитка, на улицу вышла Тоня и сказала:
— Сопли-то вытри, Василь Михалыч. Назарка, у тебя же руки окоченели, простудишь.
— Не, — возразил Назарка, не отрываясь от дела.
— Добрый день, хозяюшка, — приподнял картуз Савельич. — Так я тебя, выходит, знаю. Ты дочка Рожкова. Крут у тебя тятенька!
— Чо и вспомнили-то, — улыбнулась Тоня. — Крут да не указ!
— Куда Михаила-то спрятала?
— Спрячешь его настырного. Чуть свет ускакали на Высокий переезд.
— Не сказывали, по какой нужде?
— Будто кого-то там с поезда сбросили. Не то до смерти убился, не то покалечился.
— Скор у тебя хозяин на ногу, держись за него крепче!
— И так никуда не денется. Вот, — показала она рукой на ребят. — Его золото. В нашей родовой рыжих нет.
Алексей Савельич хохотнул про себя и попрощался с хозяйкой. Ульяне Тоня не понравилась — очень бойкая. Наговорила бог знает что. А Михаил Иванович ничего, обходительный, лишнего не скажет.
Обратно возвращались по Нижегородской. Ичев сказал:
— Чо делать-то будем? Может, к Швейкину завернем?
— Ой! — Ульяна взялась за горло. — Он же хворый, дядя Алеша. Неловко как-то…
— Ежели бы я один навострился, мог бы сказать: не мешай, старый хрыч, — пошутил Ичев.
— Што вы, дядя Алеша, да не скажет он так, не таковский он.
— Откуда ты знаешь? А приду с тобой, разве он посмеет? — с улыбкой глянул на нее Савельич.
Девушка смутилась:
— Ну уж прямо…
До бучила добрались незаметно. Ичев уверенно открыл калитку, и они вошли во двор. Там Владимир Швейкин колол дрова.
В прихожей гостей встретила Екатерина Кузьмовна. Сухонькая, подвижная. Позавидовать можно было ее бодрости в шестьдесят лет.
— Батюшки! — сказала она нараспев. — Никак Савельич! Да какими же это путями?
— Какие там пути — тропинки косогористые да каменистые.