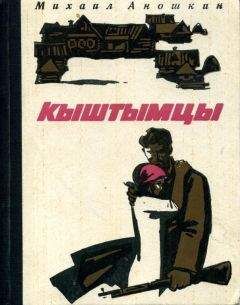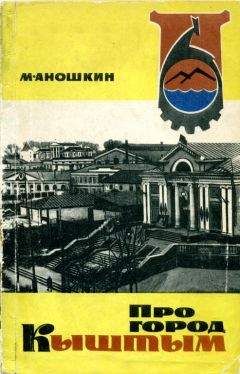— Абсолютно!
— У них есть Мишка Мыларщиков, наградил меня бог соседушкой. Так он очи-то свои бесстыжие ни днем, ни ночью с моего дома не спускает. Все норовит в нутро заглянуть, а по случаю и прижать. И вот поеду я в Екатеринбург. А Мишка потылицу зачнет чесать — это с какой стати Лука Батятин свои пимы навострил? Нет, Аркадий Михайлович, друг ты мой сердешный, человек я робкий. А чего бы вам самим не съездить?
— Это исключено! — сухо отрезал Ерошкин и зло посмотрел на Батятина.
— А Степку Трифонова?
— С ума сойти! За ним гоняются, как за зайцем гончие.
— Самое время ему и провалиться сквозь землю.
— Нет! И не надежный он человек. Может, у вас на примете все же есть кто? Подумайте, Лука Самсоныч, пораскиньте своим умом. Ну, пожалуйста, это очень и очень важно!
В эту минуту Батятин и вспомнил об Иване Серикове. А что? Пойдет.
— Ладно, подумаю.
— Вот это деловой разговор.
Ерошкин был уверен — коли Лука подумает, значит кого-то имеет в виду. В конце концов он не меньше других заинтересован: ему советская власть тоже поперек горла встала.
Во всем Кыштыме только управитель горного округа имел барометр, который висел на стене без особой нужды. Кыштымцы и без барометра хорошо разбирались в капризах погоды. Поднимется утром кыштымец и первый взор на горы — как они? Если тонут в седом тумане, ложись досыпать — ненастье не кончилось и конца ему нет. Исчез туман, горы очистились, хоть дождь и не прекратился и свинцовые тучи еще цепляются за макушки гор, — можешь радоваться. Конец ненастью. Либо к вечеру, либо к утру будет солнце. В конце лета первое багряное пятнышко — на склонах гор. Березки пока зеленые, ольха тоже. Но на склоне зажегся первый осенний костерок — лиственницы обрядились в осенний наряд. Прощайся с летом. Если горы туманной дымкой повиты, как будто кисеей подернулись, жди теплую золотую осень, сплошное бабье лето. Если же горы четко рисуются на голубом остывшем от зноя небе — быть холоду! И дожди зарядят, и седые заморозки раньше обычного появятся, и снег ляжет до срока — уже в октябре. И упадет он сначала не на дома, не на долины, нет, опять же на горы. Поежится утром кыштымец, холодновато что-то. Глянет в окошко — мать честная! Макушки Сугомака и Егозы за ночь поседели — зима стучится. Вот она — уже не за горами. А весну по-разному определяли. Сначала ветры раскачают тайгу, снег, залежавшийся на сосновых лапах, сбросят. Потом Сугомак и Егоза в синеву укутаются. И жди теплых дней. А коль заискрилось, заиграло красное солнышко, тут и дороги почернеют, и сосульки с крыш исчезнут, и грачи прилетят. Пробуждается природа, а вот чахоточные за грудь хватаются. Плохо им, когда чернеют дороги, когда текут ручьи.
Вот прилетел воробышек, уселся на оконный наличник, взъерошил перышки — зиму перезимовал, жив остался, а теперь солнышко пригревает, в первой лужице успел вешней воды напиться.
Смотрит Борис Евгеньевич на серый живой комочек и ежится — знобит его, поташнивает, в голове круженье. Мать просит — приляг, побудь дома, оклемайся малость. А что? Лечь бы да забыть обо всем на свете. Но нет, нельзя размагничиваться. Дел лавина. Откуда что берется. Продолжались митинги, формировались отряды добровольцев. К окружному съезду Советов готовились. Там надо выступить, тут присутствовать, с кем-то побеседовать, разобраться с продовольственным комиссаром — обоз за хлебом снарядить в ближайшие села. Собрали пятьдесят подвод, кое у кого пришлось мобилизовать лошадей — не без этого. Обоз охраняет отряд красногвардейцев.
Борис Евгеньевич собрался в Екатеринбург на окружной съезд Советов. Домой поэтому ушел пораньше.
Март выплеснул последнюю поземку и теперь дарил солнце и тепло. Снег посерел, по дорогам заискрились ручьи, а к вечеру подмораживало. День заметно прибавился. Смеркалось. Вот оно и бучило — шумит неугомонное. Это опускается лишняя вода из заводского пруда. Бучило — это маленький рукотворный водопад. Не замерзает даже в лютые морозы.
От ворот углового дома шагнул навстречу мужик и поприветствовал:
— Мое почтенье, Борис Евгеньевич!
— Здравствуйте, Иван Иванович! Меня никак ждете?
— Угадали. Кузьмовна сказала — приходишь поздно. Да ничего, думаю, подожду. Покалякать бы надо.
— Пойдем ко мне, Кузьмовна чаем напоит.
— Айда лучше ко мне, коль не побрезгуешь? Раньше-то ведь захаживал.
Иван Седельников — сосед Швейкиных. Лет на десять старше Бориса.
Дом Седельниковых тоже угловой, как и у Швейкиных, наискосок через речку. Щеколда у ворот звонкая, с чугунным кольцом на улочной стороне. Под кольцом железная пластинка, чтоб руку щепкой не занозить, когда берешься за кольцо.
В избе света еще не зажигали. Но звякнула щеколда, хозяйка засуетилась, зажгла лампу, цыкнула на ребятишек, чтоб не шумели. А их четверо. Старший, Димка, отцу помогал: летом жечь уголь, а зимой плести короба.
— Милости просим, дорогой гостенек, — запела хозяйка. — Раздевайтесь, в горницу проходите.
Седельников помог Борису Евгеньевичу снять пальто, повесил на гвоздь. Свой полушубок бросил на топчан. Швейкин ладонью пригладил на висках волосы и увидел самого младшего Седельникова. Тот стоял без штанов, в рубашке до пупка и, засунув в рот палец, внимательно следил за чужим дядей. Борис Евгеньевич присел на корточки и протянул руку:
— Здоров!
— Сдолово, — ответил мальчик и протянул левую руку, но палец другой изо рта не вытащил.
— Ты чо левой-то здороваешься? — спросил отец. — Правой надо.
Мальчик вытащил изо рта палец, обтер его о рубаху и подал Швейкину.
— Вот теперь ладно, — улыбнулся отец.
— Как тебя зовут?
— Ванюшкой…
— Еще один Иван Иванович!
— В роду так повелось. Мой тятька тоже был Иваном Ивановичем. Я тоже в семье младшим был.
Хозяйка поставила самовар на стол, брусники моченой, грибков соленых — ешь, дорогой гостенек. Хозяин запотевшую крыночку самогонки извлек, из самого подпола — пей, гостенек!
— О! — потер руки Борис Евгеньевич. — Чего давно не пробовал, так моченой брусники. Наши что-то в этом году подкачали.
Хозяйка деревянной ложкой зачерпнула ягоды с соком и подала. Он с удовольствием попробовал и проговорил:
— Хороша! Знаете, нигде так не умеют мочить бруснику, как у нас. Какой тут секрет, не ведаю, но такого чуда и в Сибири нет.
Пить самогон Борис Евгеньевич отказался — зельем никогда не баловался. Хозяин опрокинул в себя целый стакан. Молча жевал закуску. Захмелев, обратился к гостю:
— Как дальше жить будем? Ты там при власти, тебе виднее.
— Одолеем разруху, поднимем хозяйство и хорошо заживем.
— Твоими бы устами да мед пить. А я так думаю — промашку мы дали, шибко большую промашку. Николашку скинули — туда ему и дорога. Какой-то несурьезный был у нас царь, замухрышка. А вот англичанам под зад дали — тут мозгами пошевелить надобно было.
— Жалеете, что ли!
— Их? Они мне родней не приходились, чтоб жалеть их, я ребятишек своих жалею.
— Не всегда же так будет.
— Откудова я знаю? Нет у меня такой веры. Рад бы поверить да пока не во что. И некому. В разоре наша жизнь.
— Догадываюсь, Иван Иванович, вас кто-то обидел.
— Если хошь знать, то меня всю жисть забижают. Я не даюсь, а меня забижают. Ты вот мне скажи, по какому праву у меня со двора конягу увели? Я, по-вашему, буржуй? Мы с братаном Лехой, ты его знаешь, он у нас немтырь, вдвоем спину гнули да еще Кольке Косолапову на зиму давал гнедого. Так что — я буржуй?
— Насколько я понимаю, коня вашего взяли на время.
— На время… Сашка Рожков винтовкой потрясал — я, мол, тебе покажу, буржуй несчастный, весь твой терем го бревнышку растаскаю. За какие же грехи?
Седельников налил себе еще, однако жена убрала стакан, сказав:
— Хватит! И так окосел.
— Коня вернут, Иван Иванович, — миролюбиво сказал Борис Евгеньевич. — Но сегодня он нам нужен. Поехали за продовольствием в села. Вернутся — сразу отдадут. А с Рожковым мы разберемся.
— Уж чо, — махнула рукой хозяйка. — Коня бы только вернули, не забыли. Бог с ним, с Рожковым. Мой горяч, а тот, видать, и того горячее. Вот и наговорили друг другу семь верст до небес. Еще чайку?
— Нет, благодарю.
— Без коней я кто? Сам посуди. Ложись да помирай.
— Самому надо было ехать.
— Разве можно?
— А почему нельзя? Такие, как ты, и поехали.
— Чо ж тогда? По-людски бы и растолковали. А то буржуй, терем по бревнышку раскатаем.
Утром Борис Евгеньевич уехал в Екатеринбург на окружной съезд Советов. Пробыл там три дня и вернулся совсем больным. Таким Екатерина Кузьмовна его еще не видела. А он все хорохорился, собирался в Совет — мол, дел там всяких невпроворот. Но она не отпустила его, напоила чаем с малиновым вареньем, уложила в постель и побежала в заводскую больницу к доктору — Юлиану Казимировичу. Приехал он сюда из Польши еще до германской.