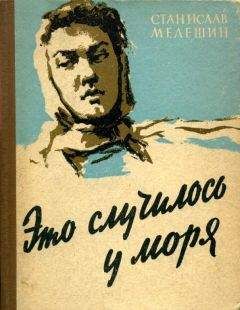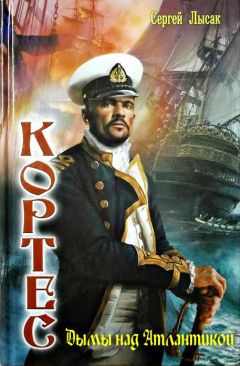Он представил себе: бегает где-то по пыльной станице мальчонка, его родная кровь, а он, отец его, батька его, бродяжит волком по степи, не увиденный им ни разу, не ведомый ему…
Боль с умилением, щемящая тоска ложились на сердце, и он, оглядывая грустную вечернюю степь и пустынное небо, исторгал, сжав зубы, что-то похожее на мычание:
«Все отняли, все!» — подумал он с ожесточением и, взглянув на смирного, пригорюнившегося отчего-то Епишкина, смягчился: «Один верный… раб… остался».
— Ну, уходи! Выпей вот на дорогу и уходи.
Он вспомнил о своих казаках, что у него в отряде, и о тех, кто к нему придет, и с усмешкой заключил: «На них надежды нету. Продадут, разбегутся… при первой же опасности!» Прощаясь, положил руку с плеткой, сжатой в кулаке, на плечо Епишкина.
— Привезешь батины сбережения и спрячь вот сюда, под камень у березы. Отблагодарю. Утаишь, обманешь — подстрелю как зайца или же на этой же березе вздерну. Понял?! Да, кстати, как там наш беглец, Роньжин? Расстреляли его?
И, услышав в ответ, что Роньжин прощен, жив-здоров и занялся хозяйством, заскрежетал зубами.
— Попадется — с живого шкуру сдеру!
Кривобоков остался один, мятущийся и опустошенный, и, казалось, не было для него исхода.
Он цеплялся за каждую мысль, что хоть немного вселяла в него уверенности или отрады.
Там, на горе Магнитной, что стоит отсюда за пятьдесят верст, припрятана у него золотая добыча на черный день, и воспоминания о горе, о золотой добыче согревали ему душу. Да и то ведь, дьявольски он устал и душа вконец измотана.
А сейчас он повеселел, ухватился за спасительную мысль, что ведь это очень просто, взять и бросить все к чертовой матери: и отряд, и всю бандитскую канитель, и родную степь — и стать воистину свободным!
Наверное, прав был хорунжий-покойник, советуя ему такое же: бросить надо возню, себя спасать надо.
Кривобоков успокоился: «Ну, это в самом крайнем случае».
И, вскинувшись на седло, повел коня шагом, потом наметом, пустил рысью, вскачь, перевел в галоп и, взмахнув плеткой, гикнул и помчался по степи аллюром в три креста, и захохотал на встречном ветру, будто освобождался от чего-то.
«Не-ет! Рано советуешь, хорунжий! Мы еще подымим, потешимся! Мы еще… и — эх!»
Он мчался в горы, к отряду, на стоянку, где ждали его верные казаки, такие же веселые волки, как и он сам.
Хвастливая мельница, что стояла на пригорке, долгие годы дружила только с ветром.
Ветер качал облака, посвистывая в небо, а мельница больше скрипела крыльями, чем работала.
Так они разговаривали.
Однажды она сказала ветру:
— И у меня тоже ведь есть крылья! Захочу — в небо улечу!
Ветер присвистнул и надулся:
— Дура ты крылатая! Да ты даже и с места не сдвинешься. Тебя земля не отпустит, — и улетел, рассердившись: сколько он бродяжил по белу свету, но ни разу не видел, чтобы мельницы по небу летали.
Она со злобой посмотрела ему вслед, перекатила в своей утробе жернова и заскрипела крыльями.
Она скрипела многие годы, силясь взлететь, но ветер был далеко, и она рассыпалась.
* * *
Густой холодный туман, тяжело переваливаясь, плыл по-над землей, обволакивая таежные горы. Он выходил из ущелий, из низовий, двигался к вершинам сопок, к соснам, цепляясь за сучья, и все вокруг словно дымилось.
И когда за продрогшими березами из-под земли медленно стал вырастать красноватый круг солнца и его сонные лучи заскользили поверх белого месива, туман заискрился радужно и ослепительно, стал голубым и еще плотнее.
Птицы не пели.
Вдали меж гор зябко покоилось озеро, и воздух и сизое небо были скованы промозглой прохладой.
В березовой лощине у огромной отвесной скалы полыхали костры, около них серыми тенями бродили люди.
Здесь раскинулась лагерем кривобоковская банда в пятьдесят сабель.
Булькали многоведерные котлы на перекладинах, по лощине разносился сытный запах вареной баранины, трещал огонь, то у одного, то у другого котла собирались группами казаки, раздавался многоголосый шум, и воздух уже покачивали пьяные песни и крики.
Поодаль в березняке бродили стреноженные кони с росистыми гривами, устало шарили мордами в траве, за шалашами и землянками в загонах блеяли овцы и мычали недоенные коровы — доблестная добыча последних дней.
За покинутыми то тут, то там повозками, телегами и тачанками, матерясь, дрогли обалдевшие от холода часовые.
На каждой скале, укрытые бараньими шкурами, молчали пулеметы, нацеленные по линиям обстрела на все подходы к лагерю.
Михайла Кривобоков проснулся от головной боли. В полутемной землянке около топчана в изголовье горела свеча, поставленная на фанерный ящик из-под леденцов.
Михайла долго смотрел на желтый язычок огня, вспоминая о том, что произошло вчера и отчего так дьявольски трещит голова, хотел потушить свечу и снова погрузиться в сон, но, услышав пьяную песню за дверью, откинул бурку и рывком вскочил на ноги.
Натянув сапоги и крякнув, пошел в угол к бадейке с водой умываться.
Из другого угла, с топчана, за ним настороженно следили черные глаза женщины.
Михайла оглянулся через плечо, бросил глуховато:
— Не спишь?
Женщина откинула одеяло, подалась вперед, радостно ответила грудным сочным голосом:
— Нет, Мишенька!
Кривобоков усмехнулся, передразнил:
— Ми-шень-ка! — и ударом ноги раскрыл дверь.
В землянку ринулся голубой утренний свет, хлынула за ним прохлада, язычок огня затанцевал, потом успокоился.
Михайла процедил сквозь зубы:
— Живем, как скоты!
Женщина подогнула колени и прищурила свои огромные глаза.
— Не пей, Мишка! Вчера ты корову от лошади отличить не мог.
Кривобоков опрокидывал в рот уже второй стакан самогона.
— Не дергай меня за нервы!
Он оглядел ее, лежащую на топчане в душной полутьме, ночная рубашка сбилась, открыв белые могучие бедра, высокая грудь вздрагивала, учащенно дыша, ноздри прямого носа с горбинкой трепетали, под черными сросшимися на переносице бровями сверкали ожидающие глаза, округлая красивая рука звала, просила примирения и радости.
«Сдобная баба», — подумал Кривобоков, подавил в себе желание и услышал тоскующее и обидчивое:
— Ты ко мне только пьяный… А теперь и пьяный не идешь. Бежишь от меня. Не любишь теперь. Спишь не со мной. Что с тобой, а, Миша? Надоела я тебе?
Кривобоков метнул на нее затравленный взгляд:
— Молчи, сволочь!
Ныло раненое плечо на прохладе. Это она стреляла в него год назад, когда он пустил банду в погоню за скотоводами.
Она просила:
— Ругай, как хочешь, я еще не такое слышала. Только люби меня…
Он с раздражением слушал ее грудной на рыдании голос.
— Думала, мы с тобой до конца одной веревкой связаны…
Подумал: «Ишь, развалилась, как шемаханская царица», и выкрикнул:
— Дура! Ты раба моя! Ты у меня в плену. Забыла, как я пощадил тебя?! Забыла?! Могу отдать отряду на потеху…
Она вздрогнула и заторопилась с ответом:
— Нет! нет! Я, Миш, ничего не забыла! — и закрыла лицо ладонями и зарыдала.
— Хватит воду лить! Сготовь что-нибудь поесть! Ну, живо!
Она, статная и величественная, встала, оделась, и, когда проходила мимо него, он небольно шлепнул ее по крутому заду.
Засмеялась. Это было примирение.
А может, и не примирение. Просто она хотела примирения. Просто некуда уже ей деваться. А когда-то…
Когда-то росла в степи единственной дочерью богатого скотовода, тургайского князька Султан-бека. Мать русская, из обедневших дворян, баловала ее и уговаривала отца, уже готовившего отдать дочку кому-нибудь в жены: мол, пусть пока поучится в гимназии, мол, не к лицу дочери Султан-бека дурой на свете жить.
В Оренбурге весело было. В женской гимназии подружки втихомолку распутничали. Она тоже не отставала.
Из гимназии с позором выгнали за прогулки в офицерские казармы. Все мечтала: выйдет замуж, привезет в степь отцу на удивление блестящего офицера-мужа. Вместо этого, когда пришлось вернуться, Султан-бек отстегал ее нагайкой и отвез из Тургая к богатому, тоже скотоводу, старому казаху в жены.
Это была не жизнь, а смех один. Умора! Уж потешилась она над ним, довела до смерти.
И оттуда родичи казаха выгнали ее.
После смерти отца матушка отослала ее в горы, к двоюродным братьям.
И революция и гражданская война не обошли ее стороной. Когда вернулась к матери, узнала, что все у них конфисковали.
А теперь вот последнюю потаенную отару овец отобрал Мишенька.
Теперь скакать некуда, мчаться незачем.
Принесла еду. Жалко улыбаясь, поставила перед ним то, что он любил, — чашку молока с земляникой.