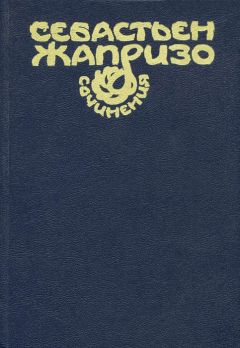— Скажи, а ночью, что было ночью, когда ты вернулась?
— О, он, конечно, беспокоился, что так поздно меня нет. К тому же ему не терпелось поделиться своим успехом, своей радостью.
— А ты…
— Объяснила, что мы хотели послушать «Евгения Онегина» и не достали билетов. Потом из-за дождя пришлось зайти к тебе в гостиницу. Нам принесли прекрасный ужин, коньяк, шампанское, но я даже не попробовала, не пригубила. Рассказала все, как было…
— Так-таки все?
— Ну, почти… Ты ведь сам сказал, чтобы я не доставляла ему лишних огорчений. Видишь, Соля, я тебя послушала.
До вылета оставалось несколько минут.
— Соля, милый, прошу, очень прошу тебя, — она робко заглянула мне в глаза. — Не надо сегодня. Останься, хоть на несколько дней останься. Пожалуйста… И вообще, зачем тебе Чита? Что тебя там ждет? Твое место среди больших музыкантов. В интересной творческой среде. Переезжай в Ленинград. Здесь тебя уже знают. Обязательно приезжай! Хорошо? Приедешь? Прямо с вокзала позвони мне. Нет, лучше телеграфируй. Я тебя встречу. Буду ждать тебя. Хорошо?
— Хорошо, — ответил я растерянно. Все пассажиры были уже в самолете.
— Соля, скажи мне еще что-нибудь, скажи: «Я тебя люблю», скажи, я прошу… — прошептала она со слезами на глазах.
— Единственная моя, я люблю тебя, очень люблю. И твою Суламифь. И Геннадия Львовича. Не огорчай их… Будьте все здоровы и счастливы. — И я нежно ее обнял. — Прощай.
Самолет отделился от земли, сделал круг над аэродромом, и в иллюминатор я увидел Ехевед, машущую мне рукой.
Возвратившись в Читу, застал жену сильно изменившейся. Я испугался, уж не болела ли она в мое отсутствие. Но она успокоила: все хорошо — и, улыбнувшись, добавила: после замужества все болезни как рукой сняло.
Вероятно, она вовсе не изменилась, не подурнела, просто смотрел я теперь на нее другими глазами. Удивлялся, как это я находил в ней сходство с Ехевед. Если До моих гастролей в Ленинграде я был к жене равнодушен, то теперь в ней все меня раздражало: ее манера небрежно одеваться, глухой голос, угловатые движения и особенно ее назойливая, подчеркнутая забота. Этого я совсем не мог переносить.
Перед глазами все время стояла Ехевед, такая, какой я видел ее в Большом зале филармонии во время моего концерта, и такая, какой она была у меня в гостинице… Она неотступно сопровождала меня. Везде. Где бы я ни был. Я разговаривал с ней. Играл для нее. Писал ей письма, не отсылая, и снова писал.
К жене я испытывал лишь чувство жалости. Заботился о ней, но старался как можно реже бывать дома, разъезжая с концертами по различным городам.
С Ехевед мы не переписывались.
Через несколько месяцев, во второй половине августа, мне снова посчастливилось побывать в Ленинграде по случаю юбилея моего бывшего педагога, профессора консерватории. Остановился я в той же «Астории».
Первый вечер был свободен, но я колебался: позвонить Ехевед или нет. Очень хотелось услышать ее голос, к тому же она просила дать знать, когда я приеду в Ленинград.
Однако не хотелось причинять неприятности Геннадию Львовичу. Лучше не вмешиваться в чужую семейную жизнь. Так убеждал я себя и все же позвонил. Тут же. В первый же вечер. Сердце мое замирало, как у юноши перед первым свиданием с возлюбленной. Я так хотел поговорить с Ехевед, но трубку взяла няня.
— Кто у телефона? — спросила она.
Я назвал себя и попросил позвать Ехевед Исааковну.
Женщина вежливо ответила, что хозяйки нет, она сейчас в доме отдыха научных работников в Гатчине, и спросила, что передать.
Это сообщение меня огорчило, и, растерявшись, я попросил только передать привет. Няня наверняка скажет об этом звонке Геннадию Львовичу. Надо было попросить его к телефону или хоть для приличия спросить о его здоровье. Получилось некрасиво. Да что теперь поделаешь, поздно.
В сердце пустота. Приехать в Ленинград и не увидеть ее, не поговорить даже по телефону. Но если уж этого не получилось, то надо было хоть узнать ее адрес, выяснить, одна ли она там или с мужем, не собирается ли этими днями приехать домой.
Но звонить было неловко. Радость от пребывания в Ленинграде померкла.
Через несколько дней, когда я уже спешил к поезду, портье передал мне письмо от Ехевед. Сидя в такси, я осторожно вскрыл конверт. Она писала, что очень обрадовалась, когда няня передала по телефону мой привет. Счастлива, что я выполнил свое обещание и опять приехал, что не забываю ее, и очень сожалела, что я не сказал, где я остановился. Но она нашла выход: звонила во все гостиницы города, пока наконец, не узнала, что я живу в «Астории». Она стала звонить мне, но телефон не отвечал. Потом что-то случилось на линии, и телефон перестал работать, поэтому она мне пишет и очень просит непременно приехать. Она отдыхает с дочкой, а Геннадий Львович в заграничной командировке. В доме отдыха пробудет еще неделю. Места здесь сказочные. Сосновый бор. Прекрасный воздух. «Ты здесь отдохнешь, — писала она. — Скучаю по тебе. Жду тебя. Мне необходимо тебя увидеть. Приезжай обязательно. Как только получишь письмо, телеграфируй время приезда. Я встречу. Помни, я очень, очень жду. Многое надо тебе сказать, а для этого нам нужно увидеться…»
Прочитав письмо, я не знал, как поступить. Меня охватило непреодолимое желание немедленно поехать к ней, увидеть ее, узнать, как ей живется, и услышать то, главное, чего она не решилась доверить бумаге. Я уже готов был сдать билет, но вовремя опомнился. Именно сейчас, когда Геннадий Львович в командировке, ехать к ней никак нельзя. В последнюю минуту, когда поезд уже тронулся, я вскочил на подножку вагона.
Приехав в Москву, я сразу же с вокзала послал Ехевед телеграмму, сообщив, что слишком поздно получил письмо. Сейчас я уже, к сожалению, далеко от тех мест, где она отдыхает, но сердце мое всегда с ней. Когда телеграмма была уже отправлена, я, как это часто со Мной бывало, пожалел о своей несдержанности. Последних слов писать не следовало.
В Читу я вернулся первого сентября. В этот день по радио передали сообщение, что Гитлер напал на Польшу. Через несколько дней, вы это знаете, Англия и Франция объявили войну Германии. А я всего несколько месяцев назад уверял мать Ехевед, что войны не будет.
Фашистские орды захватывали один польский город за другим и с каждым днем приближались к нашей западной границе, к местечку, где родилась Ехевед… На сердце было неспокойно.
Облегченно вздохнул я только семнадцатого сентября, когда Красная Армия перешла тогдашнюю польскую границу, освободив Западную Белоруссию и Западную Украину.
Местечко, где жили родители Ехевед, как и все население бывшей пограничной полосы, было уже в безопасности.
В этот день мне припомнилось, как мы с Пиней Швалбом пятнадцать лет назад, ночью, тоже охраняли границу и, шагая в таинственной тишине вдоль пограничной реки, мечтали о том времени, когда народ Польши тоже станет свободным.
Было бы очень интересно побывать опять в тех местах, посмотреть, как сейчас выглядит бывшая граница без солдат Пилсудского и тихая река, разделявшая два мира, заглянуть в соседнюю деревушку и побеседовать с жителями, которые выходили на берег слушать пионерские песни.
Но все это оставалось мечтой. Я находился далеко и выезжал с концертами лишь в города Средней Азии. Там встречался со счастливо-несчастными евреями из Польши, Чехословакии, которым удалось спастись. Беженцам помогали. Я тоже отказался от гонорара за концерты в их пользу.
В ноябре я снова собирался побывать в Ленинграде, на встрече музыкантов-исполнителей, закончивших знаменитую консерваторию. Но отложили — началась война с Финляндией. Это были нелегкие для ленинградцев дни. Где бы я ни был, мои мысли, мое сердце были там, в дорогом и любимом городе, вблизи которого шли тяжелые бон.
День за днем с беспокойством следил я за сводками, и несказанно велика была моя радость, когда, выступая в воинской части, участвовавшей летом тридцать девятого в боях против японских милитаристов на Халкин-Голе, узнал, что в Москве подписан мирный договор с Финляндией. Это было в марте, а в апреле гитлеровцы захватили Данию и Норвегию, в мае — Голландию и Бельгию, в июне — Францию. Гитлеровская армия вошла в Румынию, Болгарию, Финляндию, вплотную приблизившись к границам Советского Союза.
Нападение Гитлера на нашу страну застало меня в Кишиневе. На адрес местной филармонии я получил телеграмму из Читы. Жена сообщала, что ее, как фармацевта, мобилизовали. В тот же день я отправился в военкомат и настоял на том, чтобы меня взяли в армию.
Вскоре группа артистов была уже в частях Южного фронта. Наша бригада, состоявшая из певцов, музыкантов, танцоров и чтецов, выступала в разных частях, иногда совсем близко от передовой. Однажды, зимой сорок второго, когда, расположившись в кузове открытого грузовика, я исполнял для минометчиков, заполнивших лесную поляну, адажио Шостаковича, мне не повезло. Осколок немецкой бомбы попал в левую руку, чуть повыше локтя. И надо же такому случиться, в то самое место, где остался шрам от пули диверсанта, которого мы, чоновцы, вместе с пограничниками ловили летом двадцать четвертого года.