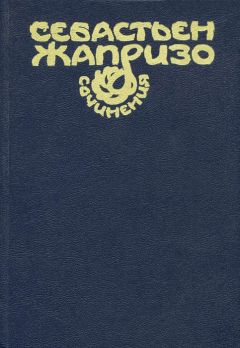Я недолго пробыл в тыловом госпитале. Но за это время успел связаться с женой. По закованному льдом Ладожскому озеру она вывозила раненых из осажденного города. Я написал ей, попросил, когда она будет в Ленинграде, зайти на улицу Лассаля и узнать о судьбе Ехевед Певзнер и ее семьи.
Все мы понимали, что творилось в осажденном городе. Ответа я не получил. Вообще писем от жены больше не было. Лишь год спустя я узнал, что она погибла в последний день боев при прорыве блокады Ленинграда. Это известие меня потрясло. Я чувствовал себя виноватым перед ней. Ведь порой я был не очень внимателен к этой скромной, тихой женщине.
Освобождая город за городом, наша армия продвигалась на запад. Вместе с войсками Первого Белорусского фронта шла и концертная бригада. Врачи хорошо потрудились, чтобы вернуть руке прежнюю подвижность. Мы миновали дымящийся Минск и через разбитую станцию Негорелое подошли к издавна знакомому мне местечку, где родилась и выросла Ехевед. Тихое, зеленое местечко было стерто с лица земли и превращено в огромное кладбище с прокопченными печными трубами, словно надгробиями погибшим. Гитлеровцы уничтожили все, все сожгли. Сохранилась лишь израненная осколками стена двухэтажного дома, где когда-то находился клуб, и «наше крылечко», единственное крылечко, которое спасла кирпичная кладка. На выступе этой кладки я когда-то сидел с Ехевед. Один клен был наполовину сломан, и его засохшие ветви мертвенно свисали, заметно припорошенные землей, засыпанные камнями и щебенкой. Второй, обгорелый, покалеченный, все же уцелел…
Возле тихой, безмятежно журчавшей реки, на лугу, где я когда-то проводил с пионерами веселые игры, гитлеровцы оставили высокий курган красной глины. Под ним лежали жители местечка, которых фашистские изверги живыми закопали в землю…
«Среди них, наверное, и родители Ехевед». Эта мысль не давала покоя.
В дни победы над фашизмом, когда затихли орудийные раскаты, мной с еще большей силой овладела тревога и беспокойство за судьбу Ехевед. Я ничего не знал о ней и о ее семье еще с тех пор, как началась война с Финляндией. Пережили ли они страшную блокаду, остались ли живы или разделили судьбу многих тысяч ленинградцев, погибших от голода, холода и бомбежек.
Из Берлина я написал короткое письмо. Просил Ехевед и Геннадия Львовича хоть в нескольких словах дать знать о себе.
Вскоре, к моему великому изумлению и радости, я получил одновременно и письмо и открытку. В письме, подписанном Ехевед и Геннадием Львовичем, они благодарили за то, что после такого тяжелого времени я сразу же черкнул им несколько строчек, не забыл их, желали скорейшего возвращения домой и новых успехов в музыке.
В открытке, подписанной только Ехевед, она сообщала, что за время, которое мы не виделись, в их семейной жизни важная новость, но какая — не сообщила. Просила меня при возвращении из армии непременно зайти к ним. «Живем в той же квартире, — писала она, — но улица переименована в честь Бродского — знаменитого художника, нашего земляка».
Хотя я уже не раз, особенно после той, самой последней встречи с Ехевед, давал себе слово не тревожить ни ее, ни его, но не смог пересилить себя и поехал домой через Ленинград. Правда, я должен был выполнить также свой долг перед погибшей моей женой. Разыскать ее могилу и почтить ее память.
Прибыв на место, я несколько дней искал ее могилу. Запрашивал различные организации, встречался с врачами санитарных частей, с солдатами, офицерами. Обошел те места, где двадцать седьмого января, в последний, решающий день операции, шли бои. Но, несмотря на мои старания, так и не удалось установить, где покоится ее прах.
Огорченный, разбитый, вернулся в гостиницу. Зажег, по обычаю предков, у себя в номере две большие свечи. Не ел, не пил, не переступал порога. Сидел с виолончелью, играл «Аvе Sаnctа Маriа» Баха и думал: возможно, если бы жена не встретила меня, жизнь ее сложилась бы счастливее. А впрочем, ведь она любила… быть может, так, как я люблю Ехевед…
На следующий день я позвонил на улицу Бродского. Ответила мне уже подросшая дочь Ехевед — Суламифь. Приятным, веселым голоском сказала, что мама через несколько минут придет и папа скоро будет.
Мне хотелось сначала встретиться с Ехевед, узнать, что за важную новость она собирается сообщить. Знает ли об открытке Геннадий Львович? Какие у них сейчас отношения? Остались ли у нее от мужа секреты? И как я должен себя держать…
Наскоро побрившись, я быстрым шагом отправился к Ехевед, чтобы успеть до прихода Геннадия Львовича поговорить с ней. Я шел по улицам Ленинграда, видел завалы и руины, раны, нанесенные этому городу, и сердце мое сжималось от боли. На стенах разбитых домов предупреждающие надписи: «Эта сторона опасна при артиллерийском обстреле», «Вход в бомбоубежище» и другие. На углу — старый плакат: «Что ты сделал для фронта?!»
Я подумал: они, ленинградцы, сделали все. Сделали больше, чем было в человеческих силах. И если я раньше любил этот город потому, что с ним были связаны лучшие годы моей юности, то сейчас он вызвал во мне чувство несоизмеримо большее, сокровенное, самое святое для меня.
Я готовился увидеть развалины и на улице Бродского, но она совсем мало пострадала. А дом, где жила Ехевед, выглядел почти так же, как до войны, если не считать перекрещенных наклеек на окнах и иссеченных осколками стен.
Я позвонил и, пожалуй, слишком долго задержал палец на кнопке звонка. Слышно было, как в квартире скрипнула дверь. Шаги. Она, Ехевед!.. И весь я подался вперед.
В дверном проеме стоял Геннадий Львович в генеральской форме. Он, словно не узнавая, холодно посмотрел на меня. С минуту мы молча глядели друг на друга. Он — генерал-лейтенант инженерных войск, в дорогой, с иголочки, форме, и я — демобилизованный рядовой в своих кирзовых сапогах и видавшей виды гимнастерке.
— Извините, — растерянно пробормотал я. — Может… не вовремя?
— Соломон Елизарович, если не ошибаюсь? — вымолвил он без особой радости. — Давно в Ленинграде? Специально или… ну, проходите, — сухо пригласил он, как бы что-то в себе переборов. — Присаживайтесь, если не очень торопитесь. Скоро должна и хозяйка прийти. Вероятно, задержалась в университете. Работы много. Она ведь заведует кафедрой. Перед самой войной защитила докторскую…Чувствовалось, что он не очень-то доволен моим неожиданным визитом. Нет, это был не тот, не прежний Геннадий Львович. В нем начисто отсутствовали радушие, простота, непосредственность. Появилась какая-то странная настороженность в том, как он держался, в разговоре, во взгляде. Говорил как бы нарочно только о Ехевед. Когда «юнкерсы» бомбили Пулковскую обсерваторию, она, будучи ранена, рискуя жизнью, спасала документацию наравне с мужчинами. Вообще все дни блокады держалась мужественно, была в отряде самообороны — сбрасывала с крыш «зажигалки», дежурила в госпитале.
Он как бы между прочим еще раз поинтересовался, сколько дней я уже в Ленинграде и долго ли задержусь. Я сказал, что приехал несколько дней назад, искал могилу жены, погибшей при прорыве блокады, но, несмотря на все мои старания, я так и не смог найти то место, где она обрела вечный покой. Больше мне здесь делать нечего, и завтра я собираюсь уехать.
Красивое лицо генерала, на котором застыла холодная вежливая улыбка, теперь слегка оживилось. Он стал расспрашивать, в каких войсках служила моя жена, когда пришло последнее письмо. Потом сказал, что и его два брата погибли на фронте. Старший — в боях под Сталинградом, младший — при штурме Берлина.
Сестру с пятью детишками мал мала меньше фашисты уничтожили в Бикерневском лесу под Ригой. Другая сестра с малышом тоже трагически погибла. Вместе с тысячами женщин и детей эвакуировалась на корабле из Одессы. Под Севастополем судно разбомбили. Отец — академик Рабунский — и мать в первый же год войны умерли в Ташкенте от тифа. Из всей их большой семьи только он один и уцелел, хотя все это время находился здесь, в Ленинграде. Был, правда, тяжело контужен, лежал в госпитале. Ехевед не отходила от его постели. Она и поставила его па ноги.
Мне хотелось узнать, живы ли родители Ехевед, но не спросил, чтобы лишний раз не называть ее имени.
Я видел, что настроение его все время меняется. А я испытывал к нему те же добрые чувства, что и прежде. Ведь он был мужем Ехевед, и частичку своей любви я перенес на Геннадия Львовича.
Из просторного коридора донеслось проворное топанье детских ножек, и в столовую, где мы сидели, вбежала красивая девочка, копия Ехевед, и за ней худенький большеглазый мальчик в коротких голубых штанишках на белых лямках. Девочка, это была Суламифь, поздоровалась со мной, поцеловала отца, сказала, что во дворе они уже наигрались, и ушла в детскую. Мальчик, коротко остриженный, очень живой, громко чмокнул отца в щеку. Геннадий Львович обнял его, потрепал влажный темный чубчик и поцеловал его в лоб.