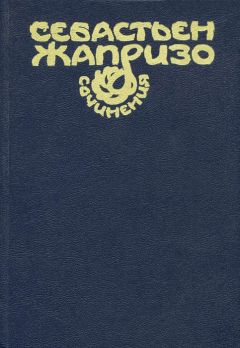Когда Ехевед и Геннадий Львович свернули за угол и их уже не было видно, я рассчитался за номер, захватил единственное свое имущество, единственное богатство — виолончель, поспешил на вокзал и через несколько часов уехал.
Моя трехкомнатная квартира в Чите была занята. Уходя в армию, жена поселила в ней уборщицу из аптеки с четырьмя детьми. Муж этой женщины вернулся с фронта без руки. Хотя я имел все права на свою квартиру, но согласился взять другую — однокомнатную. Места было вполне достаточно, чтобы поставить стол, книжный шкаф, диван и, главное, виолончель. А больше мне ничего не надо было. Снова вернулся в музыкальную школу, много ездил. Жил один-одинешенек. От Ехевед никаких вестей не было. Часто хотелось самому написать или позвонить, но сдерживался.
Через несколько лет было решено провести наконец в Ленинграде встречу музыкантов-исполнителей, которая должна была состояться еще накануне войны. На этот раз я остановился в гостинице «Нева», довольно далеко от дома, где жила Ехевед. В свободное время, которое у меня бывало иногда, я собирался зайти на улицу Бродского, повидать ее, детей, Геннадия Львовича или хоть позвонить, узнать, как они живут. Но всякий раз твердил себе: «Нет, ты не должен идти, не должен звонить. Остуди свое сердце, погаси свои чувства. Не напоминай о своей привязанности к их дому, не мешай им. Дай этой семье возможность тебя забыть…»
Так убеждал я себя и не ходил, не звонил. Лишь одни раз, поздно вечером, подошел к их дому и долго смотрел на ярко освещенные окна, прислушивался к звукам скрипки, которые оттуда доносились, взглянул на балкон, где когда-то стоял Геннадий Львович, дожидаясь жену. За занавеской двигались тени, но не мог разобрать, кто находился там, в комнате. Ехевед, Суламифь, Шолом? Как все они были мне близки и как далеки от меня…
Если б Ехевед знала, что я здесь, под ее окнами, выбежала бы ко мне… Но лучше, что она и не догадывается о моем пребывании в Ленинграде.
Я ушел. Долго бродил по знакомым улицам и, усталый, вернулся в гостиницу. Утром меня пригласили в филармонию, предложили переехать в Ленинград, стать солистом симфонического оркестра. Об этом можно было только мечтать. И все же я отказался.
Встреча музыкантов-исполнителей, бывших студентов консерватории, продолжалась три дня. Последний вечер перед отъездом был у меня свободен, и мне удалось достать билет на спектакль «Тевье Молочник», поставленный гастролировавшим здесь Московским еврейским театром. Я немного опоздал и занял свое место в партере, когда уже подняли занавес и на сцене появился Михоэлс в роли Тевье. В зале гремели аплодисменты.
Потрясенный игрой этого прекрасного актера, я следил за каждым его жестом, ловил каждое слово и не замечал, кто сидит рядом со мной. Когда занавес опустился и зажгли люстры, очень знакомый голос окликнул меня, и я увидел в первых креслах бельэтажа Ехевед и Геннадия Львовича. Они пригласили меня к себе в ложу. Узнав, что я уже три дня в Ленинграде, Ехевед обиделась: «Как же так, не зашел, не позвонил!»
Геннадий Львович был в хорошем настроении, восхищался игрой Михоэлса и сказал, что еще раз пойдет в театр с детьми. Он хочет, чтобы Суламифь и Шолом увидели Михоэлса, Зускина и вообще еврейский театр. После спектакля мы вышли вместе. Ехевед и Геннадий Львович пригласили меня к себе посмотреть на детей, они за это время заметно выросли, послушать их сына Шолома, который прекрасно играет на скрипке. Мне и самому было бы приятно посидеть в этой семье, но я отказался, сославшись на то, что занят. Ехевед была огорчена моим отказом и, прощаясь, завела разговор о своем давнем желании посетить родные места. Побывать там, где стоял их дом, посмотреть на уцелевшее крылечко и посадить молодой клен на месте погибшего. Она упрашивала и меня поехать, всего лишь на день, не больше. Если не сейчас, то в другой раз. Она подождет…
В Читу я возвратился в приподнятом настроении — неожиданно встретил Ехевед и Геннадия Львовича и в то же время сдержал слово, которое дал самому себе, — не пошел с ними, не пошел, хотя меня радушно приглашали.
Не только творческий человек, но и каждый, кто увлечен своим делом, не останавливается на достигнутом. Я много играл, выступал, ездил по городам и селам…
И вот я снова в Ленинграде, Больше пяти лет прошло с тех пор, как я встретился с Ехевед и ее мужем на спектакле. Было воскресенье, и я надеялся увидеть их на первом же концерте. Но они не пришли. Не появились и на следующих выступлениях. Это меня обеспокоило. Однако я не звонил. Ожидал, что они придут на мой пятый, последний концерт, который состоится снова в Большом зале филармонии. Их не было. Тогда, не выдержав, я перед самым отъездом позвонил. Мне никто не ответил. Я и представить не мог, что случилось, и решил обратиться к сестре Ехевед. Она подошла к телефону и, когда я назвал себя, даже обрадовалась. Сказала, что много слышала обо мне от Ехевед, была даже на одном из концертов и в восторге от моей игры. Потом призналась, что виновата передо мной: письмо, которое я из Минска послал Ехевед, попало к ней и она не отдала его сестре. Та и до сих пор об этом не знает. Под конец она сообщила, что Ехевед и Геннадий Львович с детьми уже два года находятся за границей и пробудут там, вероятно, еще несколько лет.
Без Ехевед этот большой шумный город казался мне пустынным, и покидал я его с грустью — нет ее!..
Я побывал во многих городах — и в Риге, и в Одессе, и в Праге. Последний мой концерт был в Гаване и проходил в большом зале Национального театра. Все места были заняты. Я исполнял Пятую сюиту для виолончели Баха — одно из сложнейших произведений композитора.
Среди публики, которая после концерта поднялась на сцену и окружила меня, я вдруг неожиданно, словно произошло какое-то чудо, увидел ее, любовь моей юности, песнь всей моей жизни.
— Ехевед! — воскликнул я изумленно, направляясь к ней.
— Я дочь Ехевед — Суламифь, — улыбнулась и оглядывая меня синими сияющими глазами, сказала молодая женщина. — Неужели я так похожа на маму?
Суламифь познакомила меня со своим мужем, кубинцем. Рассказала, что после окончания института иностранных языков работает в советском посольстве на Кубе. Вышла здесь замуж за учителя. У них есть трехлетний сын Фидель. Родители уже вернулись из-за границы в Ленинград. Работают там же, на прежних местах. Шолом закончил консерваторию и играет в Ленинградском молодежном музыкальном ансамбле.
Суламифь и ее смуглый муж пригласили меня к себе. Но надо было завтра в семь утра улетать, а было уже поздно.
Приехав на другой день в аэропорт, я застал там Суламифь с мужем и маленьким Фиделем — черноволосым мальчиком, настоящим кубинцем с бабушкиными синими глазами. Они принесли мне красивую плетеную корзинку с апельсинами, бананами, виноградом и маленькую посылку родителям.
Прощаясь, я поднял на руки и поцеловал внука Ехевед, которого она еще не видела.
Уже из иллюминатора я смотрел на Суламифь, которая стояла на аэродроме и махала вслед лайнеру рукой, точно так же как когда-то ее мать провожала меня из Ленинграда.
Лайнер взял курс на Москву, а оттуда я вылетел в Ленинград. Теперь уже не надо было бороться с собой. У меня были законные причины повидать Ехевед — передать привет и посылочку с Кубы.
Устроившись в гостинице, я сразу же позвонил на улицу Бродского. Трубку взял, видимо, Шолом. Я попросил позвать Геннадия Львовича.
— Папа сегодня вылетел в Женеву, — сказал он и передал трубку матери.
Ехевед очень обрадовалась моему звонку, и особенно велико было ее радостное удивление, когда я передал привет от дочери, зятя и внука.
— Приезжай сейчас же! — потребовала она. — Не задерживайся. Я жду. И Шолом еще дома. Я хочу, чтобы ты повидался с ним.
Ехевед встретила меня уже у открытой двери. Мы расцеловались. Нежно, тепло.
— Ах, если бы ты пришел на несколько минут раньше. Только что Шолом ушел. У него через сорок минут концерт. Я бы так хотела, чтобы ты с ним поговорил… Но об этом после… Ну, рассказывай, рассказывай, — нетерпеливо попросила она, пододвигая мне мягкое кресло и усаживаясь напротив.
Она без конца расспрашивала меня о Суламифи, о зяте и особенно о внуке.
Я продолжал говорить, а она вся сияла радостью. Народная мудрость гласит: красивые девушки становятся потом красивыми женщинами, а красивые женщины — красивыми бабушками. Ехевед была очень красивой бабушкой. За годы, что мы не виделись, она, правда, немного постарела, но в то же время красота ее засияла каким-то новым блеском. В свои почти шестьдесят лет она все еще была очень стройна и подвижна. Синие глаза полны энергии, жизни. Лишь волосы утратили свой прежний цвет. Они были такими же густыми и пышными, но отливали теперь серебром. Однако для меня она по-прежнему была полна обаяния.
Я продолжал рассказывать. Ехевед несколько раз меня прерывала, прислушиваясь, не звонят ли. Очень волновалась, что до сих пор нет никаких известий от Геннадия Львовича. На рассвете он с членами государственной экспертной комиссии вылетел в Женеву, обещал сразу же позвонить или дать телеграмму.