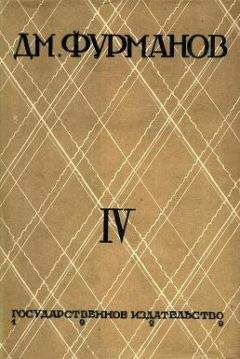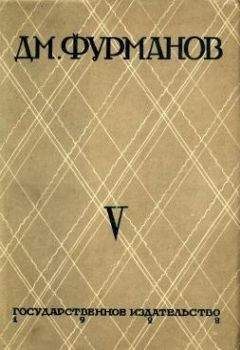Хруль практикует иной метод: приказал сорвать с дверей все указания и воспрещения, вроде «Без доклада не входить», «Прием от 8 до 4» и т. д. — приказал всё сорвать и пускать всех, когда бы и за чем бы они ни пришли. Ну, конечно, время у него растрачивается глупо и попустому, весь день он болтает с посетителями о мелочах, но зато вокруг своего имени он создал, как выражается сам, некоторую «атмосферу уважения и благодарности» среди досужих посетителей. Словом, каждый на свой манер утверждает свое имя в истории. Хитер народ, ой, хитер! Иного и не подозреваешь ни в каких честолюбивых помыслах — ан, вдруг проговорится как-нибудь неосторожно, и увидишь, что человек в Наполеона гримируется. Не стану лукавить, скажу и про себя: быть членом Реввоенсовета для меня нисколько не трудное дело, и, если только это произойдет, я, несомненно, буду одним из лучших ревсоветчиков. А почему бы и нет? Чего мне, собственно говоря, не хватает? Скромничать, конечно, могу и я, но если посмотреть на себя объективно — гожусь, очень гожусь на большую работу. У меня революционное прошлое, есть и знания, есть несомненный и ясный ум, есть решительность в делах — чего же больше? В ближайшие дни открываются крупнейшие военные операции. Мне придется выложить на стол весь багаж и все свои таланты. Ну, лицом в грязь не ударю: чем круче буря, тем выше гребни.
19 ноября.
Благородный Раймер, член Ревсовета нашей армии, убит. Это известие подняло на ноги всех, кто его знал и любил. А любили его, мне думается, все. Такой светлой личности я не встречал, такого доброго сердца я не знаю. Долго и тщательно всматривался я в его поступки, усиленно искал я в них все тех же мотивов, которые вижу повсюду, — но нет, у покойного Раймера, видимо, не было задних мыслей, он слишком был чист для того, чтобы лукавить и лгать. Он погиб в бою, и как раз вместе со штабом той самой бригады, где я прежде был комиссаром. Передают, что в нашем командовании было что-то неладное, но установить ничего нельзя. Погиб и Крюков — мой смелый и славный комбриг. Жаль — хороший он был человек, железный и прямой. Сейчас вот такое состояние, как будто я сам чем-то виновен в его гибели. Пришла с фронта срочная телеграмма — приказывают мне временно замещать убитого Раймера. Ну что ж — дело не совсем новое, кое-что и в этом понимаю. Операции развиваются с невиданной быстротой. Мы идем вперед — движемся неудержимой, всесокрушающей лавиной. Весело, душа радуется! Хочется самому совершить какой-то невероятный подвиг.
20 ноября.
Смешон был мой дебют на новом и славном посту. Я впервые сел за зеленый стол, где прежде сидел покойный Раймер, и ощущения мои были многообразны и неопределенны. То становилось жутко за ответственность, которую принял, то ужасала работа — головокружительная, огромная, сложная, то становилось неловко и чего-то стыдно, как будто я — малый ребенок и сел за рабочий стол своего отца, то вдруг охватывало неудержимое веселье, все внутри начинало дрожать от радости и гордости за то, что я парю высоко, что я не слизняк, не ничтожество. В сбответствии с моим состоянием и настроением, вероятно, менялось и выражение моего лица, менялись и позы и даже самая манера принимать посетителей.
Я хорошо помню два приема. Начальник санитарной части пришел как раз в тот момент, когда я чувствовал себя ребенком, забравшимся за рабочий отцовский стол. Я принял его неуверенно, не знал, что сказать, какие задать ему вопросы.
Всем своим видом я как будто извинялся за то, что вынужден вот по роду службы встать к нему в отношение начальника, приказывать ему, указывать то, что он знает не хуже моего. Но начальник санчасти слишком умный и тактичный человек— он, видимо, понял причины моей неуверенности и сократил до крайних пределов свою интересную и серьезную беседу.
Влетает инспектор кавалерии. Но ему уже не застать меня растерянным. О, нет, я совершенно крепок, я свеж и радостен, я бодр и знаю — знаю себе цену, чорт возьми! У меня спирает дыханье, когда подумаю, какое высокое место занял я на общественной лестнице. Так буду ли я перед каким-то инскавом ощущать себя как божья коровка? Я насупил брови, нахмурил лицо, придал своей осанке некоторую горделивость и разрешил сесть лихому инспектору. Он держал себя безо всякого достоинства, как самый рядовой подчиненный, не имеющий собственного мнения. Тем легче было мне управляться с ним. Я авторитетно надавал ему целую кучу распоряжений, указал на ряд общих дефектов работы, всем известных и пока совершенно неизлечимых, держал себя настолько с гонором и фасоном, что бедный инспектор даже начал вдруг что-то спешно записывать в свою книжечку, видимо, опасаясь забыть мои наказы. Я торжествовал.
Я одерживаю победы, хотя и знаю, что этим победам грошевая цена. Главные трудности впереди — когда я столкнусь с начальником Особого отдела или председателем Трибунала. Вот тут поистине будет или блестящая победа или трагический разгром. Их взять под себя можно исключительно силой личного авторитета, ибо формально они во многом остаются за пределами моей компетенции. Ишь, как гладко и научно! Ну, что за глупости, и отчего это я как будто смущаюсь и тушуюсь перед своими мыслями? Обоих я видел несколько раз, с начальником Особого слегка даже знаком… Пресимпатичные ребята! Все мои опасения, несомненно, глупы. Внушить к себе уважение я умею даже самым бессовестным людям, не только товарищам по работе— ответственным и бесспорно заслуженным, каковыми являются они оба.
Довольно, об этом больше ни слова. Я живу теперь в каком-то новом и странном состоянии, я уже не тот, что был несколько дней назад: и мысли мои иные, и настроения, и приемы, и все, все во мне переменилось. Я себя не узнаю, — как будто и тот же, да не тот. Я замечаю, что каждая должность, каждый пост накладывают на человеческую личность свой особый отпечаток. В одном положении человек спокоен, тверд, умен и авторитетен, вы слушаете его с удовольствием и с легкостью, понимаете и исполняете все его приказания. Снизили — и перед вами обнажается совершенная тряпка, жадно-завистническая фигурка, склочник и обормот. А повысили — начинает тухнуть, разлагаться. Видимо, существует в исполняемой работе какой-то предел, выше которого человеку в данном его состоянии не следует переступать. Другое дело, если он прибавит себе свежего багажу, подкрепится знаниями, покритикует себя поглубже и посерьезней, подучится, — ну, тогда, быть может, и полезно его поднять выше. Видно, только поистине великие неизменны, только на них посты и должности не накладывают своей печати. Вон Ильич или Бухарчик — как жили в подпольи, так живут и теперь. Я их прошлой жизни сам не знаю, но слыхал про нее часто и слыхал всегда одно и то же. Мне говорили, что это была жизнь, полная высокого благородства и совершенно бескорыстного служения великому делу. Удивительные они, замечательные люди! Вы только послушайте молву — уж не говорю в рабочей, даже в обывательской среде — послушайте и поймите. Ведь это сплошное благоговение, глубочайшее уважение именно как к людям кристальной чистоты. Их простая жизнь, без грому и треску, у всех на глазах, имеет большое агитационное значение. Мне думается, что если бы Ильича из председателей Совнаркома перевести политруком в роту, он и глазом бы не моргнул, а работал бы там, в роте, с тем же подъемом, с каким работает и теперь. Это признак великого человека. А вот нашего брата попробуй снизить — разом вломится в амбицию. Что да почему, да разве я недостоин? Конца нет обидам и вопросам. Среди вождей не все у нас великие люди — есть и фантазеры, есть поклонники быстроногих балерин, есть эффектные форсуны и шикуны — и вот их-то поведение агитирует как раз в обратную сторону. Не подумайте, что я говорю только про обывателя, что его это возмущает— мне уж можете поверить: этим глубже всего возмущается сознательный рабочий, который привык в большевике видеть прежде всего серьезного, абсолютно честного и чистого человека-борца, а не какого-то элегантного франта и веселого хвастуна. Не прячьтесь тоже за красивое словцо «демагогия», — я говорю сущую и неопровержимую правду! И если вы здесь посмеете уцепиться за это слово, так произойдет это единственно потому, что больше цепляться вам не за что. Остерегитесь.
Ну, что это я сегодня как зафилософствовал? Уж не новый ли пост сказывается? Вот развиваю и защищаю теорию личной чистоты — а сам? Доказать-то не штука, а вот изо дня в день, из часа в час проводить в жизнь все то, про что говорим, это действительно штука!
3 декабря.
Теперь нас трое в Ревсовете. Приехал Фигнер, пробыл два дня и уехал с командующим на фронт. Я Фигнера знаю, человек как будто хороший, и работа должна пойти дружно.
Я крепко сижу в своем кресле. Две недели назад я подходил к нему робкими, неуверенными шагами, томился мутными сомненьями, не знал, с чего начать и где остановиться… А теперь? А теперь я убеждаюсь лишний раз, что у меня есть очень ценная способность ориентироваться в любой обстановке, быстро осваиваться с любым делом, смело брать быка за рога. Это хорошо. За две недели я уже успел себя отлично зарекомендовать перед фронтом и вчера в секретном пакете получил назначение действительным членом Рев-совета. Это укрепило меня еще больше, придало новую смелость и силу в работе. А работы так много! И я ее не отталкиваю, не отбрасываю от себя — наоборот, стараюсь всем доказать, что я действительно отличный талантливый работник. На фронт уже не показываюсь, сижу и работаю больше в своем кабинете. Да это и понятно — у меня совершенно не остается времени для разъезда по цепям.