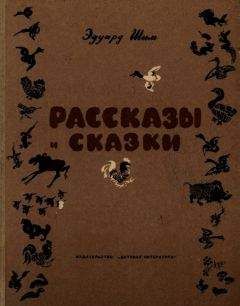Только налажу один станок, запущу в ход, глянь — уже соседний замолчал: сверло сгорело или резец выкрошился… Бегу в кладовую, принесу новое сверло, заточу, а в это время еще два станка замерли.
Вспомнил я тогда Капитаныча… Вот, думаю, у него был бы порядок. Опытные установщики весь инструмент под рукой держат, всякие приспособления, оправки придуманы. Раз-два, и наладил. А у меня ничего нет, бегаю за каждым пустяком.
И, кроме того, бригады своей не знаю. Шесть человек, а все разные. Один сразу кричать начнет, если неисправность в наладке. Другой просто отойдет в сторонку, сядет и дожидается молча, покуда я не замечу. А потом была еще третья — одна, правда — пожилая работница, тетей Соней звали.
Тихая такая, в платочке, в халатике стареньком. Молчаливая, слова не добьешься. И как будто сонная все время или задумчивая, — не замечает окружающего. Станок давно разладился, детали корявые сыплются, а она копошится по-прежнему, гонит брак. Подбегу, затрясу руками:
— Вы что же не видите?!
А она поднимет глаза, моргнет.
— Извини, — говорит, — сынок…
— Чего извинять, когда вы себе вред делаете! Не примут же такие детали!
— Прости, пожалуйста… Не понимаю я…
У этой тети Сони в войну семья под бомбежкой погибла — трое дочерей, кажется. Она в сумасшедшем доме сидела, лечили ее долго, но все равно не вылечили. Вроде здоровый человек, а внутри ничего живого не осталось, — как деревянная…
Ну разве будешь с такой ругаться? Махну со злости рукой, уйду в курилку. Провалитесь вы со станками вместе!
Но и покурить спокойно нельзя. Через минуту помощник мастера бежит:
— Отчего в бригаде простой?!
А когда тебя вот так дергают со всех сторон, то нервничаешь и медленней соображаешь. Чем больше беспорядка в бригаде, тем я хуже работаю. Вконец руки опускаются…
Недели не проработал, как вышла неприятность. Эта самая тетя Соня запорола важный заказ.
Делали мы втулки для радиостанций. Суетился я, не успел проверить — и больше тысячи штук оказались негодными.
Лежат они в ящике — блестящие такие, желтые, веселые, — а я смотрю на них так, будто они сейчас взорвутся… Ну, думаю, теперь конец! Составят акт, меня с должности долой, а с тети Сони деньги высчитают.
А где ей столько уплатить, еле себе на житье зарабатывает…
И тетя Соня, видно, поняла — испугалась.
В первый раз вижу в глазах у нес виноватое выражение; поправляет на голове платок, шепчет:
— Что же будет теперь… Что же будет…
Не смог я глядеть на нее, схватил ящик в охапку и отнес в кладовую. Сижу над втулками, перебираю в пальцах. И чувствую — жжет мне руки…
Валька наблюдает за мной и посмеивается:
— Что, бригадир, прижало? Хочешь, выручу?
А как тут можно выручить? Брак такой, что не исправишь — отверстия рассверлены больше, чем требуется. Надо восемь и две десятки, а просверлили восемь с половиной.
Но Валька хитрый был, дьявол.
— Учись, — говорит.
Взял одну втулку и легонечко стукнул по ней молотком. Она, конечно, сплющилась. Но совсем незаметно для глаза, чуть-чуть. И отверстие получилось в тютельку. Правда, теперь оно не круглое, а продолговатое, но авось не заметят!..
«Исправили» мы брак, сдал я всю партию в ОТК. Контролеры меряют втулки своими пробочками, а я места себе не нахожу. Вот попадусь, вот попадусь!..
Но пронесло. Наряд подписан, ящик со втулками увезен в сборочный цех. Прибежал я к тете Соне, рот у меня до ушей:
— Порядочек!
Она сначала не верила, потом обняла меня, чуть не плачет.
— Милый, — говорит, — спасибо… Добрый ты человек!
— Пустяки, — отвечаю, — мы не то еще можем!
Весело у меня было на душе в тот день. От хорошего настроения и работа заспорилась— мигом все делаю. Ни один станок не молчит, гремят все шестеро, а я возле них прогуливаюсь, руки за спиной… Но только радость-то недолгой получилась. Вот уже смене конец, я с завода ушел, отправились мы с Валькой за приключениями, — а про втулки не забыть. Сначала неясно было: чем тревожат? Только никак не избавиться от беспокойных мыслей, засела внутри меня дрожь…
А после додумался. Ведь это еще не спасение, что контролеры пропустили брак. Даже если на заводе никто не заметит, все равно не скроешь. Откажет в работе радиостанция, начнут выискивать причину, исследуют — вот и амба… Мои втулки будут в жизни проверяться, а это такой контролер, которого не обманешь.
Наутро я за два часа до смены пришел на завод. Еще не знал, как поступить, — или признаться мастеру, или самому за станок встать и сделать новую партию… Потом решил сбегать на сборку, чтобы вернуть брак. Хожу вдоль конвейера, и в глазах мутится: не найти, где мой проклятый ящик…
Но везло мне, глупому, честное слово! Удивительно даже. Оказалось, что эти втулки, в общем, не очень важная деталь. И намертво крепятся винтом, так что не соскочат из-за бракованных отверстий…
Когда понял я это, — сел тут же на ящик и почувствовал, что двинуться не могу. Размяк, расклеился…
А потом вернулся к себе в цех и начал, загодя станки налаживать. И на второй день раньше пришел, и на третий. Проняло меня, как говорится… Теперь накрепко запомнил, что любая деталька будет проверяться в жизни.
Конечно, это не значит, что я уже таким сознательным стал. Черта с два, — сначала просто боялся, как боятся учителя, который к доске вызовет… И не месяцы, а годы должны были пройти, чтобы начал я понимать кой-чего.
Вот, знаете, у нас нередко судят о людях только по их поступкам. Hу там — норму выполняет, взносы аккуратно платит, сидит на всех собраниях, — значит передовой и сознательный. А ведь главное-то не здесь. Главное — почему он так поступает?
Через год мою фотографию на Доску почета вывесили. И бригада моя славится, премиальные получаем всякий месяц. Но сознание-то мое человеческое далеко еще отставало от моих дел, — и обманывались во мне, и сам я обманывался. Думал — раз хвалят, значит — хорош…
Ну, а на самом-то деле… Впрочем, сейчас поймете, как было на самом деле.
Эта самая тетя Соня, что втулки испортила, через год уволилась. На ее место прислали новенькую.
В то время вербовали рабочих по деревням, — и вот появилась в моей бригаде деревенская девчонка, щеки яблочками. Шурой звали… Неопытная совсем, не то что на станки — на трамваи удивлялась.
И какая-то… хорошая такая, чистенькая, крепенькая. Даже смотреть на нее радостно. Знаете, будто она только что в снежки поиграла, раскраснелась и еще глаза от солнца щурит…
Я ее поставил работать за свой знаменитый «Болей». Думаю — сил у нее хватит, девка живая, оправится. А зато получать будет побольше, может, ей в деревню надо деньги отправлять…
Танцует Шура за этим «Болеем» — руки мелькают, юбочка по ногам хлещет, — быстро, быстро… И, знаете, даже как будто красиво это получается…
Я ей, незаметно, заказы даю полегче, повыгодней. Не почему-либо, вы не подумайте, — просто так. Хотелось что-нибудь, приятное сделать.
И вдруг возле «Болея» однажды остановился Валька. Уже не помню, ко мне ли он пришел, или просто мимоходом, но только увидел он Шуру — и мичманку на затылок сдвинул.
— Простите, барышня, вы на рояле не играете?
Шура, конечно, не подозревает ничего, смеется. Она вообще разговорчивая была… Слово за слово, Валька ей все свои готовые фразы выложил. Ей это в диковинку, интересно. Короче говоря, вечером гуляли мы уже втроем.
А дальше… Нет, вы зря киваете. Дескать, раз втроем, то здесь-то и началась ссора… Нет.
Хуже было. Едва начались эти разговорчики, а потом — выпивки всякие, обнимания в парадных, исчезла прежняя Шура. То есть, не исчезла, а просто я иначе стал на нее смотреть. Уже какая там свежесть, какая чистота, — нет и в помине. Вижу обычную девку, точно такую же, с какими на улице знакомился. Только одета она похуже, губы красить не умеет, выговор у нее псковской — «чиво» да «куды»…
И уже совершенно спокойно мог я теперь подойти к ней, облапить прямо у станка. Ругался, не стесняясь. А потом надоела она мне, совсем перестал обращать внимание.
Валька продолжал таскать ее на какие-то вечеринки, запирался с ней в кладовой. Мне было все равно. Во-первых, потому что я в свою работу втянулся, а во-вторых, потому что были у меня другие девчонки, не хуже.
Через полгода и забыл я, как она выглядела раньше. Кричал:
— Опять, раззява, лерку забила!..
Она тоже отругивалась, могла и по батюшке пустить. Сделалась к тому времени похожей на тех девчонок, что толкутся по вечерам на углах, — голубой беретик, хромовые сапожки с отвернутыми голенищами, юбка выше колен.
Встречал я ее иногда на танцах: крутилась со знакомыми ребятами, всех знала по именам.
А к осени стала почему-то рассеянная, тихая. За станком двигалась медленно, словно засыпала на ходу.
Я ее не жалел. Странно: вот видел, как она изменилась; понимал, что в этой перемене виноват и сам, но почему-то стыда не чувствовал, и ни капельки не жалел. Даже, наоборот, какая-то злость во мне поднималась. «Ведь другие, — думаю, — не портятся, вон сколько порядочных девчат на заводе… А если Шурка не смогла удержаться, скурвилась, так ей и надо… Поделом».