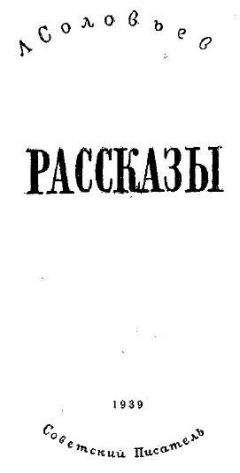— Сочинять должен ты из боевой жизни, — сказал комиссар. — Сам бы помог, да видишь какое дело — все некогда; к вечеру-то гудёт в голове, как в бочке... Должен ты еще дать понятие, какая будет жизнь при коммунизме, через тридцать лет... Служба наша военная, сегодня ты жив, а завтра... Конечно, которым людям счастье, они своими глазами эту жизнь увидят, а многим, между прочим, уж не придется. Был у меня приятель, Гусман, комиссар — беляки шашками его изрубили, очень хорошо он умел про эту жизнь рассказывать. И бойцы у него всегда были как львы.
Комиссар выдвинул ящик стола; там, в полевой сумке, хранилась у него фотография Гусмана. Сутулый, в очках, в помятом шлеме, с темным от небритого волоса лицом, в брюках навыпуск, он стоял, смущенно улыбаясь, у какого-то дерева; маузер оттягивал его пояс и заметно мешал ему. Комиссар грустно улыбнулся воспоминанию,
— Вот был орел! Книжку все хотел сочинить — какая будет жизнь при коммунизме. Не успел!.. До чего бы эта книжечка нам сейчас пригодились.
Из той же полевой сумки он достал клеенчатую толстую тетрадь, бережно развернул ее. «Что такое счастье и как надо его понимать», — прочел Мамонтов крупный заголовок и больше ничего не смог разобрать; строчки налезали на строчки, иные записи шли поперек страницы, иные — вдоль, а некоторые — наискось; все было перечеркнуто, исправлено и снова перечеркнуто.
— Что такое счастье? — торжественно спросил комиссар. — Вон куда хватает, дальний прицел у него. Постановка вопроса — какое бывает счастье для буржуя и какое для трудящего человека. Для буржуя счастье — чтобы угнетать и заниматься кровопийством, а для трудящего — наоборот, чтобы свободно жить, в дружбе, работать сообща, чтобы вокруг домов были везде палисадники, чистый воздух, чтобы ходить в театр, книги читать, газеты; хлеба там или мяса, ботинок будет у нас — завались, и все, заметь, дешево, и чтобы совесть была чистая — никого чтобы не давить и не угнетать. В этом есть для трудящего человека счастье... Понял? Театр будет у нас тогда не в сарае; это — временно, ввиду тяжелого положения; театр будет у нас, если хочешь знать, в царском дворце! А то и почище выстроим, все в наших руках. Понял?..
Он перевернул несколько страниц, показал Мамонтову заголовок «Коллективное земледелие». Дальше следовали заголовки: «Коммунистическая мораль», «Чистая любовь, брак и воспитание детей», «Вопросы всеобщего образования», «Долголетие, проблема бессмертия», «Гармонический человек будущего», «Наука и искусство в коммунистическом обществе». Для Мамонтова, которому ни разу в жизни не пришлось поговорить с Гусманом, эти заголовки звучали сухо и непонятно; комиссар же ясно видел за ними какую-то светлую глубину и, стараясь выразить ее, сердился на бессилие своих слов и на равнодушие собеседника. Его сухая, горячая ладонь лежала на руке Мамонтова.
— Ты понимаешь? — настойчиво допытывался он: глаза его блестели, пугая Мамонтова. — Ах ты, боже мой! Все тут понятно, до самого последнего слова, как у Ленина, полный способ нового устройства жизни, чтобы на земле было для трудящих людей полное счастье.
Он заглядывал в лицо Мамонтову и дергал его за рукав, требуя подтверждения. В печке давно уж сгорели все дрова, — трещал, обугливаясь, фитиль лампы, в комнате потемнело.
— Не умею сам я складно писать, не прошел образования, — вот главная заковыка. — Комиссар спрятал тетрадь в свой ящик. — Этой тетрадке цены нет. Что мог сочинить человек из своей головы, а?! Порубили беднягу, не подоспел я к нему во-время, а сам он клинком владел плохо. Конечно, теперь не воротишь, но книгу эту, между прочим, надо кому-то дописывать. Он мне все рассказывал по тетради, и для себя я помню, а чтобы другим передать в письменном виде — этого не могу. Образования не проходил. Пропадает самый главный смысл — ну прямо как вода из решета... А скажи мне, товарищ артист, — вкрадчиво спросил он, — скажи мне, где ты прошел образование?
Мамонтов сразу сообразил, какая страшная опасность грозит ему, беспокойно заворочался на стуле, застегнул пуговицы пальто.
— Какое там образование!.. Из пятого класса реального выгнали. Что и знал — давно позабыл, мне ведь шестьдесят с лишним.
— Нужен мне грамотный человек, — перебил комиссар, — которому бы я мог доверять. Я бы ему рассказывал, — знай пиши... — Он так посмотрел на Мамонтова, словно прицелился. — Тебе вот я доверяю...
Но Мамонтов уже торопливо шарил в углу, разыскивая галоши. Комиссар остановил его.
— Обожди, силой не заставляют. Не хочешь — твое дело, но только зря. Через такую книгу знаешь, как можно прославиться? Свою фамилию поставишь, — мне этого не нужно, а Гусману — вовсе. Твоя будет фамилия...
— Нет, — твердо ответил Мамонтов. — Куда мне! Я никогда в жизни книжек не писал, да, признаться, и читал их мало. Пьесу одолею как-нибудь, а уж насчет книжки... Шутить изволите, Ефим Авдеевич...
— Эх! — сказал комиссар с досадой. — Ты как заяц, товарищ артист, в кусты норовишь. Ну. ладно, пиши пьесу, только смотри, чтобы я в ней видел старанье.
Его скуластое лицо светилось обычной усмешкой. Он сильно тряхнул вялую холодную руку Мамонтова и, крепко пожимая, сразу согрел в своей широкой ладони.
По коридору затопали, приближаясь, тяжелые сапоги, дверь открылась, и вошел пахнущий бензином приземистый, почти квадратный человек весь в кожаном, с темными замасленными руками. Он не ждал увидеть здесь постороннего и недружелюбно покосился на Мамонтова.
Лицо комиссара отяжелело, глаза потухли; он коротко бросил Мамонтову:
— Иди!
Темнота слила воедино землю и небо. Мамонтов шел медленно и, рассматривая дорогу, низко нагибался к тусклым лужам. В кармане нашел он спички, но было бесполезно зажигать их на ветру. И вдруг стремительно набежал сзади белый летучий свет; в его полосе мгновенно возникло и сразу потухло голое дерево, зарычал мотор, все покрыла свирепым воем сирена, — и, огибая окаменевшего в ужасе Мамонтова, слепя его, обдавая гарью и водой, промчался на полной скорости грузовик, оставляя за собой непроглядную тьму. И, как раньше, в комнате, пришибло Мамонтова холодным по́том, колени ослабли, затряслась голова. Он побежал, не разбирая дороги, по лужам, ни о чем не думая, повинуясь безотчетному, единственному стремлению — укрыться в четыре стены...
6Фронт придвигался все ближе к Зволинску. Городок затопили войска. Они прибывали днем и ночью, задерживались в городке на день-два и уходили почтовым трактом дальше. Этот медлительный поток был неиссякаем. По вечерам на улицах играло множество разноголосых гармошек; под ручку с военными гуляли девицы, ошеломленные быстрой сменой кавалеров.
Каждый по-своему объяснял движение войск. Некоторые, в том числе и комик Логинов, злорадно говорили: «Погнали товарищей...» Но большинство было на стороне красных: «Теперь наши нажмут!»
Положение в труппе, а главное — доверие комиссара обязывали Мамонтова, и он искрение, всей душой желал победы своим новым хозяевам. Он был честный служака.
Он дорого платил за доверие. Особенно мучила новая пьеса. Иногда овладевали Мамонтовым приступы злобного отчаяния, он был готов навсегда отказаться от дружбы и доверия комиссара, лишь бы покончить со своими страданиями. Его останавливал страх перед пустотой, в которую он снова погрузился бы после этого: он устал за долгие годы быть лишним на земле и боялся поверить, что возвращение к жизни — кратковременно и случайно. Потрясенный этой мыслью, он снова хватал карандаш, бумагу.
Он страдал в одиночку. Кому он мог рассказать? Суфлер выслушал бы его раболепно, антрепренер — равнодушно, Логинов — злобно; комиссар же вообще не имел склонности к жалостным исповедям. Комиссар был человеком действия — в жизни признавал он только дела, а все остальные — мысли, книги, слова — ценились им лишь настолько, насколько они помогали делам. Он без сожаления выбросил бы свою заветную тетрадь, если бы видел в ней лишь мечту, а не руководство к действию. Целиком преданный своему революционному делу, он стремился приставить к нему всех — от мала до велика; для него не существовало в мире лишних людей, кроме, разумеется, буржуев. В его отношении к Мамонтову не было ни жалости, ни покровительства. Он хотел получить революционную пьесу и был твердо убежден, что Мамонтов напишет ее; бесполезно было бы обращаться к нему с горестными излияниями и жалобами на бессилие; он не понял бы этих жалоб и, возможно, не поверил бы им.
Мамонтов все это чувствовал. Смятение его души выражалось в молчаливости, прерываемой иногда торопливым, сердитым бормотанием, в походке — то излишне медлительной, как у лунатика, то почти переходящей в бег, в неподвижном, бессмысленном взгляде, в каком-нибудь странном отрывистом восклицании.
— ...Того, папаша? — ласково осведомился Логинов, постучав пальцем по своему лбу. — Начинается? Пора, пора... С чем вас и поздравляю.