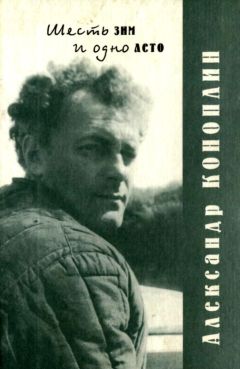Иногда Георгий Александрович становился агрессивным.
— Вы рабы! — кричал он. — Нация рабов в классическом понимании.
Я возражал, но Панченко не унимался.
— Вы непредсказуемы, ваши поступки необъяснимы для нормального человека! Вместо того чтобы, получив в руки оружие, уничтожить своих угнетателей, вы преподнесли им победу над фашизмом! А себе оставили жизнь прежнюю. Она вам больше нравится. Но это же и есть один из признаков раба! А вот и остальные: лень, лживость, пьянство, склонность к предательству, отсутствие чувства собственного достоинства. Все это у вас — полным набором. Раб живет одним днем, он знает, что хозяину нужны его руки, значит, что бы ни случилось, завтра он получит свой кусок хлеба и миску баланды. Если напьется, его накажут, но он рад, что напился. Только в обществе, где человеку не принадлежит ничего, может родиться такое чудовище. Вообще в истории России и еще раньше — Руси — имелось множество условий, способствующих развитию нации в этом направлении. Крепостное право было отменено лишь в девятнадцатом веке!
— Но мы — талантливый народ! — в отчаянии кричал я.
— Голубчик, да разве я возражаю? Но это не относится к государственному строю. До нас дошло множество гениальных творений, созданных рабами. Талант дается от рождения, а человек, как известно, рождается свободным. Россия после крестьянской реформы начала быстро наращивать потерянное, а кремлевская шпана еще поспешнее всякое развитие прихлопнула. Не нужны ей ни умные, ни талантливые. Поймите правильно: я вовсе не виню русских людей, но я обвиняю ваших правителей: формируя ваше мировоззрение, они совершают величайшее преступление века. Честно говоря, Сережа, я мечтал после войны увидеть Россию без большевиков. Не довелось…
Утомившись от «лекций», Панченко ложился и свистом подзывал Настю. Играя с ней, он засыпал, а я переваривал услышанное. Со многим приходилось соглашаться, но насчет того, что все русские — рабы, мне казалось преувеличением. Люди, окружавшие меня в детстве, были известны как раз иными качествами, и особенно дед по отцу Петр Димитриевич Слонов. Поступиться принципами его могла заставить только смерть. Новая власть была им недовольна — игнорирует постановления гор- и райисполкома, в больнице установил свой порядок, даже от инструктора райкома партии требует, чтобы тот надевал халат, как простой посетитель… Однако властям приходилось терпеть — врачи такого уровня в районных больницах встречаются нечасто.
У деда сохранилась давняя, еще со студенчества, дружба с академиком Бурденко. На протяжении ряда лет Николай Нилович настойчиво звал его к себе в клинику, но в начале 1938 года прислал очень короткое письмо, заканчивающееся такой строкой: «Петр, ты был прав. Живи счастливо в своем захолустье». Мои родители и бабушка решили, что Николай Нилович обиделся.
— Такого друга потерял! — сокрушалась Ольга Димитриевна. — Как будто это какой-нибудь Иван Феодосьевич…
Дед ничего не объяснял. Между тем начавшиеся два года назад аресты в Москве, Ленинграде и других городах приобретали повальный характер. Даже в нашем заштатном городишке арестовали двух учителей и секретаря райкома партии. Центральные газеты писали о том же. В списках приговоренных к расстрелу ленинградцев дед встретил несколько знакомых фамилий.
— Неужели он даже это предвидел? — с благоговейным страхом сказала моя мать. Свекор и раньше не раз поражал ее своей прозорливостью…
В 1941 году Слонов совершил поступок, едва не стоивший ему жизни. Однажды ночью на нашей станции остановился правительственный поезд. Энкавэдэшники сняли с него какого-то человека, с величайшей осторожностью погрузили в машину и привезли в районную больницу. Деда подняли с постели и велели одеться, а поскольку пришла за ним не сиделка, а двое военных, он решил, что его песенка спета. Поцеловав плачущую жену, вышел из дома, никого ни о чем не спрашивая — друзья давно предвещали ему кутузку за «несоветский характер». Но военные повели его не к машине, стоявшей за оградой, а к подъезду больницы. В вестибюле Петр Димитриевич увидел весь свой штат — сестер, сиделок, терапевта Ивана Феодосьевича, окулиста Ванеева, студента Борю, проходившего практику в качестве нарколога, и даже кучера Ефима. У всех был до крайности испуганный вид. К деду подошел пожилой военный.
— Тяжело заболел очень нужный стране человек, к тому же иностранец. Наш доктор Крамер настаивает на немедленной операции. Впрочем, он совсем потерял голову, мы хотим знать, что скажете вы.
Из-за спины военного вышел маленького роста лысый человек.
— Я, собственно, не настаиваю, я считаю…
— Где больной? — спросил дед, словно только что не было щемящей сердце тоски, слез жены и мрачной машины за оградой.
«Очень нужным стране» человеком оказался генерал Людвиг Свобода. Об этом деду шепотом поведал Крамер.
— Я, вообще-то, терапевт… — лепетал он, поминутно вытирая потную лысину. — Генерал еще до отъезда жаловался на сердце, но на это не обратили внимания. Знаете, как у нас?..
Закончив осмотр, дед сказал:
— Будете ассистировать. Больного на стол!
Персонал кинулся по своим местам. Когда дед мыл руки, важный военный подошел снова.
— Надеюсь, вы понимаете, какую ответственность берете на себя? Если с генералом что-нибудь случится…
— Как больной? — демонстративно не слушая его, спросил Слонов. — Посторонних прошу удалиться. — Войдя в операционную, он увидел у стены двух чекистов и гневно потребовал: — Повторяю: посторонним покинуть помещение!
Один чекист вышел на цыпочках, второй даже не шевельнулся, и тогда дед крикнул так, как имел право кричать здесь только он:
— Во-он! Немедленно — вон!
У хирургической сестры Натальи Павловны впервые за тридцать лет работы выпал из рук скальпель, с Крамером сделалось дурно. Чекист покраснел, и кто-то даже заметил, как рука его потянулась к кобуре, но тут вернулся первый и что-то шепнул ему на ухо. Оба вышли, операция началась.
Продолжалась она больше трех часов, а когда закончилась, начали прибывать медики. Из областного центра на дрезине примчалась бригада из десяти человек, из Москвы самолетом доставили еще шестерых. Маленькая больница гудела от возбужденных голосов. Москвичи спрашивали, есть ли ли в городе гостиница, требовали горячих ванн и ужина и, между прочим, осмотра больного, — по словам Крамера, состояние генерала до операции было критическим. Не обращая внимания на протесты персонала, москвичи двинулись к палате, где лежал генерал, но у них на пути оказался военный с тремя «шпалами».
— Гостиницы в городе нет, — сказал он, — но в Доме крестьянина для вас оставлены койки. Там и поужинаете. Что касается больного, то хирург Слонов приказал его не беспокоить.
— Этот лекарь не нуждается в мнении специалистов? — возмутились «светилы».
— Он нуждается в отдыхе, — ответил военный, — прошу освободить помещение, персонал должен работать.
Несмотря на удачную операцию, Слоновы целый месяц ждали ареста — чекисты в исключительных случаях могут простить обиду, коллеги — никогда, однако через месяц пришло письмо из Москвы от Людвига Свободы с выражением благодарности русскому доктору Слонову. В конверт была вложена записка от Николая Николаевича с лаконичным и не таким официальным текстом.
«Дорогой Петр! — писал Бурденко. — От души поздравляю! Смотрел сам и дал полюбоваться другим. Блестяще! Обнимаю. Твой Николай».
Для получения письма деда вызвали в районный отдел НКВД. Письмо вручили распечатанным — чекисты, даже местные, должны знать всё…
Не знаю для чего — дед хранил журналы и книги дореволюционного издания. Почти все были запрещены, я же имел к ним неограниченный доступ — дед не скрывал от меня ни свои убеждения, ни литературу. Георгий Александрович лишь добавил к моим знаниям свои.
Кроме разговоров о политике он занимался делом — записывал на стене угольком какие-то формулы. В основном ночью. Несколько десятков строчек мелким убористым почерком, и всё это от пола до высоты нар, и всё — на стене, не видной через «глазок». Чтобы записывать, Георгию Александровичу приходилось стоять на коленях часами.
— Я думал, вы молитесь.
— А это и есть моя молитва. Молитва науке. Если бы вы знали, какая это ценность! Я работал над этой темой еще до войны. И только теперь завершил. За этот труд любому присвоят звание академика. Ах, как жаль, что вы ничего не понимаете в химии!
— Может, лучше попросить бумагу и карандаш?
— Я пробовал. Дают только для написания заявления четвертушку и потом отбирают. Хранить у себя запрещено. Даже бумагу для курева проверяют, чтобы на ней не было текста, а тут — таинственные знаки…
— Что же вы собираетесь делать? Ведь в любой момент могут перевести в другую камеру.