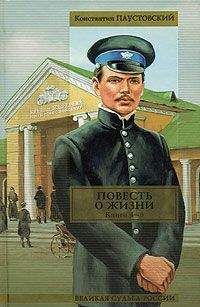под каким видом, но все время то привозили, то увозили на склады, то снова перетаскивали в учреждение и наваливали в коридорах. От этого непонятного круговращения все одних и тех же тюков с бязью сотрудники учреждения впадали в столбняк.
Свободного времени у меня было много. Я пытался разыскать своих гимназических товарищей, но почти никого из них не осталось в городе, кроме Эммы Шмуклера. Но и его я видел редко. Он стал молчалив и печален, может быть оттого, что ему пришлось пожертвовать любимой живописью ради родных. Отец Эммы болел, и вся тяжесть защиты семьи легла на Эмму. Защиты от голода, реквизиций, уплотнений, выселений, от погромщиков петлюровцев и от постоев.
По вечерам я опять, как в гимназические годы, ходил на концерты в сад бывшего Купеческого собрания. Розы и канны уже не цвели в этом саду. Их заменили мята и полынь.
Довольно часто в ткань музыкального произведения врывались посторонние звуки — отдаленные взрывы или ружейная стрельба. Но на это никто не обращал внимания.
В те дни в Киеве я начал зачитываться книгами великого мистификатора в литературе и великого француза Стендаля. Но я не задумывался над сущностью его мистификаций.
Я считал их вполне законными, как считаю и посейчас. Законными потому, что они свидетельствовали о неисчерпаемом запасе настолько разнообразных идей и образов, что объединить их под одним именем было немыслимо. Никто бы не поверил, что один и тот же человек способен с такой точностью углубляться в противоположные области человеческой жизни — в живопись, способы торговли железом, в быт французской провинции, сумятицу боя под Ватерлоо, в науку обольщения женщин, в отрицание своего буржуазного века, интендантские дела, музыку Чимарозо и Гайдна.
Когда же я узнал, что обширные, полные живых событий и мыслей дневники Стендаля были во многом вымышлены, но так, что к ним не мог придраться даже самый великолепный знаток современной Стендалю эпохи, я почувствовал невольное преклонение перед гениальностью и литературной отвагой этого загадочного и одинокого человека.
С тех пор он стал моим тайным другом. Трудно сказать, сколько я совершил прогулок по Риму и Ватикану, сколько поездок по старинным городам Франции, сколько видел спектаклей в театре Ла Скала и сколько выслушал бесед с умнейшими людьми девятнадцатого века вместе с этим неуклюжим человеком.
Вскоре мне повезло. В Киев приехали из Москвы писатели Михаил Кольцов и Ефим Зозуля. Они начали издавать журнал по искусству, и я попал в него литературным секретарем. Работы было мало. Журнал выходил тощий, как школьная тетрадь с наполовину вырванными страницами.
Уверенный в себе, насмешливый и остроумный Кольцов почти не бывал в редакции. Все дни напролет я просиживал в одной комнате с Ефимом Зозулей, — настолько близоруким, добродушным и снисходительным человеком, что он никак не был похож на железного посланца Москвы.
Я показал Зозуле начало своей первой и еще не дописанной повести «Романтики». Он искренне похвалил ее, хотя и сказал, что я чрезмерно увлекаюсь самоанализом и, кроме того, пишу несколько длинно.
Зозуля писал в то время цикл рассказов по пять-шесть строчек в каждом. Сам он говорил, что они «короче воробьиного носа». Рассказы эти были похожи на басни. Каждый заключал в себе безошибочную мораль.
Зозуля думал, что литература — это учительство, проповедь. Я же считал, что она гораздо выше этого утилитарного назначения, и потому постоянно спорил с Зозулей.
Тогда я уже был уверен, что неподдельная литература — это самое чистое выражение вольного человеческого ума и сердца, что только в литературе человек открывается во всем богатстве и сложности духа и своей внутренней силы и тем как бы искупает множество грехов своей обыденности. Я думал, что литература — это подарок, брошенный нам из далекого и драгоценного будущего, что в ней переливается из столетия в столетие мечта о совершенстве мира, его гармонии, о бессмертии любви, несмотря на то что каждый день она рождается и умирает. Так тихий гул морской раковины вызывает желание увидеть голубеющие в рассветной мгле необъятные и тихие воды, рождает тоску по серебряному дыму взлетающих к зениту облаков, по океанам озона, рожденного в сырых лесах и освежающего наши глаза, по вечному лету, звонкому голосу ребенка, по глубокой мировой тишине — спутнице размышлений.
Так и литература. Каким-то подводным, вторым, отдаленным и вместе с тем очень близким звучанием она приближает нас ко времени золотого века наших мыслей, поступков и чувств.
Пока мы спорили с Зозулей о литературе, наглые атаманы Зеленый и Струк рыскали вокруг Киева и то тут, то там нападали на окраины города. Однажды Струк захватил даже весь Подол, и его не без труда удалось оттуда выбить.
С юга надвигались деникинцы. В степях за Кременчугом бесчинствовал Нестор Махно.
Об этом в городе говорили мало и как будто не придавали этим событиям особого значения. Ходило столько лживых слухов, что даже действительным фактам никто уже не верил.
Малиновые галифе с лампасами
Прекраснодушные споры с Зозулей об искусстве были неожиданно прерваны моим призывом в армию. Из-за сильной своей близорукости я всегда освобождался от военной службы и был так называемым «белобилетником». Но сейчас неожиданно призвали в армию и всех ранее освобожденных.
Меня вместе с несколькими болезненными юношами наскоро освидетельствовали и отправили в караульный полк.
Это был, очевидно, самый фантастический из всех полков, какие когда-либо существовали на свете.
В одной из стычек с махновцами был взят в плен помощник Махно — не то Антощенко, не то Антонюк. Я забыл его фамилию. Будем называть его Антощенко.
По совокупности преступлений этого Антощенко надлежало расстрелять. Но пока он сидел в Лукьяновской тюрьме, дожидаясь расстрела, в его шалую голову неведомо как просочилась мысль о возможности спасения.
Антощенко вызвал следователя и продиктовал ему письмо на имя председателя Чрезвычайной Комиссии. Антощенко писал, что Советская власть не знает, что делать с пленными бандитами. Их слишком много. Всех не расстреляешь, а держать в заключении этих дармоедов, особенно в то голодное время, было накладно. Поэтому бандитов, отобрав у них оружие, часто отпускали на все четыре стороны. Большинство из них тотчас же возвращалось под «прапоры-знамена» своих атаманов, и снова начиналась кровавая гульба и гонка по Украине.
Антощенко предлагал выход: не расстреливать его, Антощенко, а наоборот, освободить из тюрьмы, а он, в благодарность за это берется сформировать из пленных бандитов всех мастей совершенно образцовый караульный полк.
Антощенко ссылался на свой авторитет среди бандитов и писал, что никому, кроме него, эта задача не будет по силам.
Правительство пошло на риск и освободило Антощенко. И он действительно за короткое