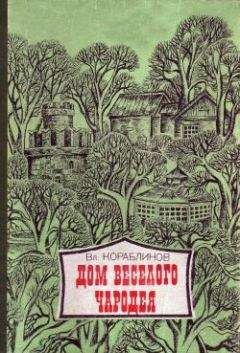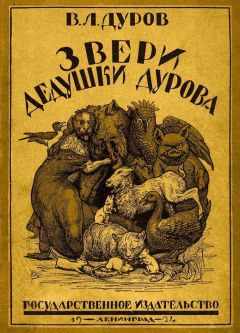Коридорный побежал за извозчиком.
Бедная Еленочка пригорюнилась, нервно теребила золотую цепочку, то и дело поглядывая на крохотные часики. Ее напугали дуэль, губернаторское предписание, вся напряженность последних дней. Правду сказать, ее и будущее пугало.
– Не терзай цепочку, – сказал Дуров. – Оборвешь.
– Но как же, Толья? – растерянно спрашивала. – Как же?
– А ничего. Привыкнешь. – Он посмеивался в усы, скалил зубы. Что-то волчье, злое проглядывало в улыбке. – При-и-вык-нешь! У нас с Терезой и не такое случалось… Будешь, душенька, будешь в острог передачку носить – яички, колбаску, маслице… Да ты, майн либе, не бойся: русская тюрьма куда как проще ваших, немецких: рублевку в зубы – и будьте любезны, айн-цвай!
– О-о! – простонала Бель Элен. – Не нада тюрма… Пошалиста!
Когда до парохода оставалось меньше часа, в номер постучали настойчиво.
– Антре! – откликнулся Дуров.
Поручик явился нежданно. Ему было все известно до мелочей. Влетев шумно, он кинулся к ручке Прекрасной Елены, тут же и Анатолия Леонидовича сжал в объятиях, и все это как-то враз, одновременно, выпаливая офицерские комплименты, слова сочувствия и возмущения.
Он был немножко Ноздрев. Крестообразный пластырь на щеке, след недавней дуэли, почему-то придавал ему сходство с бессмертным героем гоголевской поэмы.
Упав на колени перед Еленой, вопил, что не встанет, умрет здесь же, в номере пошлой гостиницы, если мадам не соблаговолит… не окажет любезность… не осчастливит… Смысл его растрепанной речи сводился всего-навсего к покорнейшей просьбе посетить именьишко —
– В двух шагах, мадам… Прелестнейшее местоположение, ландшафт – диво! Швейцария, честью офицера клянусь, мадам… Савой! Ривьера! Будем гулять… собирать грибы!
И к Дурову кидался:
– Нет, каковы канальи! Этот слюнтяй Грязной! Губернатор… добрый малый, мы с ним в родстве, но – трус! Трус! Боится Петербурга, боится губернского предводителя, боится архиерея! А ведь из знаменитейшей фамилии князей Тохтамышевых! Его предки… впрочем, что – предки, черт с ними, с предками! В путь, господа! В путь!
Анатолию Леонидовичу показалась забавной поездка в гости к шумоватому поручику, – почему бы и нет? Багаж – «артисты» и реквизит – уже отправлен по железной дороге; помощнику можно дать телеграмму о непредвиденной задержке. Дня два, даже три, пожалуй, недурно побездельничать, отдохнуть… на лоне, так сказать.
– А что? – весело рассмеялся. – Поедем, а? Что скажешь, Еленочка?
Еленочка сказала:
– О! Карашо… Ляндшафт. Собирайт гриба!
Ей до смерти хотелось уехать поскорее, куда угодно, лишь бы выбраться из этих мест, где так много страшного, неожиданного. Где этот милый офицер почему-то хотел убить ее Анатоля… Где гадкий губернатор делает такие ужасные предписания…
А в цирке публика ревет, топает ногами и пахнет водкой.
Ландшафт, действительно, оказался прелестен: парк, пруд, чудные окрестности – луга, рощи, Волга. Плохо было остальное: ветхий дом, где ночами за лохмотьями обоев возились, шуршали мыши, и было сыро и холодно, и пахло собаками; обед, наскоро приготовленный разбитной чернявой бабенкой (экономкой, как рекомендовал ее поручик), жиденький суп, сваренный из тощего петуха; плохо было то, что, закупая в городе провизию, поручик, видимо, увлекся напитками, совершенно позабыв о прочем, и вино в самом деле было дорогое и отличное. Но гости пили мало, хозяин старался за всех и в конце концов так нагрузился, что, хотя и обещал после обеда показать парк («Чудо красоты! Сады Семирамиды – что? Тьфу, пардон, мадам!»), вдруг ослабел и тут же, уронив голову на тарелку, заснул.
Пошли гулять вдвоем.
Множество собак бродило по двору и парку, – борзые, гончие, легаши и просто дворняги, помеси разных пород. Деревенское стадо мирно паслось среди вековых вязов; в холодке под старой березой дремал пастух.
– Дед! – окликнул его Дуров. – Ты что ж стадо-то распустил? Барин увидит, заругается.
– Ничаво, – с усмешкой ответил дед. – Нешто углядишь… Вишь, плетень завалился, скотина и прет, с ей чаво спросишь?
Так они брели в дремучих зарослях старого парка. Рыженькая собачонка, вся в репьях, кудлатая, пристала, увязалась, бежала следом.
– Со-ба-а-ка! – Анатолий Леонидович приласкал собачонку. – Со-ба-а-ка…
Задрав голову, рыженькая завыла.
– Смотри-ка! – удивился Дуров. – А ну, еще раз: со-ба-а-ка… со-ба-а-ка…
Та пуще прежнего залилась.
– М-м… А ведь это – идея! – воскликнул Дуров. – Ей-богу, идея! Поющая собака… Чем тебе не мамзель Плевицкая?
– Смотри, смотри! – ухватив за рукав, Бель Элен тащила его к пруду. – Ах, какая… какая мэрхен!
Не найдя русского слова, не зная его, сказала по-немецки.
На берегу пруда белела удивительная постройка – круглая, на шести колоннах беседка. Полуразвалившаяся винтовая лестница вела наверх, на плоскую крышу, где, розоватая от вечернего солнца, как бы сама светясь, возвышалась дивная статуя античной богини…
– Удивительно! – Спеша, ломая карандаш, Дуров набросал на папиросной коробке легкие контуры прелестной беседки. – Удивительно, как все чудесно сложилось: и этот город, и предписание, и шальной поручик… Ты понимаешь, Еленочка? Понимаешь?
Она ничего не понимала, конечно.
Да и как ей было понять, что в эту минуту он с ясностью необыкновенной увидел кусочек своей воронежской усадьбы, самый взлобок бугра, на котором все чего-то не хватало; что-то, казалось ему, прямо-таки просилось на это место… Но что? Что?
Сейчас он увидел: беседка-бельведер, шесть колонн, винтовая лестница, мраморное чудо…
А как это будет глядеться с реки! Среди зелени молодого сада… Над скукой горбатых уличек она засияет, как волшебство, как зримое чудо…
– Ба! Вон они где! – Поручик словно с неба упал и, судя по его виду, падал долго и замысловато: галстук съехал набок, сюртучок в мелу, светлые панталоны обзеленились о траву…
– А я ищу, ищу… Мадам! – сунулся к ручке, клюнул носом в ладошку Прекрасной Елены. – Мадам, поверьте слову офицера… Вся усадьба к вашим услугам! Распоряжайтесь! Повелевайте!
– Слушай, мон ами́, – сказал Дуров, – подари-ка мне эту статую, ну на что она тебе?
– Абсссолютно! Бери, пожалссста! – Поручик махнул рукой. – Все равно, брат, с молотка пойдет…
– И еще, знаешь, вот эту рыженькую я бы с удовольствием прихватил. Забавная собачка, я ее в люди выведу!
– Но, помилуй… такая дрянь! Дворняжка! Пссс… Бери борзых, сколько хочешь.
– Совсем не дрянь, – возразил Дуров. – Очень, очень славная собачка… Со-ба-а-ка! Со-ба-а-ка!
Рыженькая взвыла, взрыдала, всплакала.
– А ты говоришь! – рассмеялся Дуров.
И была еще одна ночь с мышиной возней за обоями и второй обед с голенастым петухом.
После чего статую уложили в ящик с сосновыми стружками, упаковали надежно; на рыженькую надели нарядный ошейник с поводком. И с вечерним пароходом Анатолий Леонидович и Бель Элен, провожаемые хмельным поручиком, отправились в новые странствия.
Луна всходила, медным тазом отражалась в змеистых масляных волнах великой реки.
Поручик шатался на мостках причала.
– Мадам! – хрипел. – Же ву зем, мадам! Честью офицера! В вашшем ррасспоряжении… Пррошу-с… Весьма!
Но резво зашлепали колесные плицы и заглушили признанья шумоватого поручика.
Письмо было адресовано на Мало-Садовую, его благородию господину Клементьеву.
Анатолий Леонидович сообщал своему управляющему, что в ближайшие дни он, г. Клементьев, должен получить в железнодорожной товарной конторе посланный большой скоростью ящик, в коем упакована весьма ценная скульптура. Кроме того, к письму был приложен чертеж новой постройки. Сооружение именовалось бельведером. Оно состояло из круглой беседки на шести колоннах, с плоской крышей, на которую вела кругалями лестница. На средней площадке оной по чертежу намечалось установить неведомую статую.
День, когда она появилась на Мало-Садовой, был серый, ноябрьский. На голых ветках деревьев вороны галдели, спорили, дрались из-за места. Заречная даль лениво шевелилась слабой метелью. Все ниже, все тяжелее провисало безрадостное небо над унылыми воронежскими буграми, и этот нависший мрак, и крики ворон, и ревматические кости маленького Клементьича, – все предвещало затяжное зимнее ненастье.
Смотреть посылку собралась вся семья.
Ящик вскрывал в сарае сам господин Клементьев. «Странная игрушка! – думал он. – Бешеные деньги небось уплочены… Тыщи две небось… Ох, артисты! Тут в мозгалевскую лавку за три месяца задолжали, от мясника с Девичьего дважды посыльный наведывался, намекал… И долг-то, сказать бы, пустячный, каких-нибудь сотни полторы, а тут – на тебе – статуя…»
Две тыщи целковых! Он почему-то твердо решил: две тысячи, никак не меньше.
Ловко орудуя гвоздодером, приподнял верхние доски. Сквозь приятно, скипидаром пахнущие стружки в сером сумраке сарая сверкнула мраморная белизна прекрасного тела. Приподнятая сильными руками управляющего, древняя богиня как бы вторично рождалась из пахучей пены сосновых стружек…