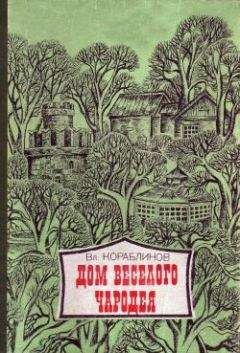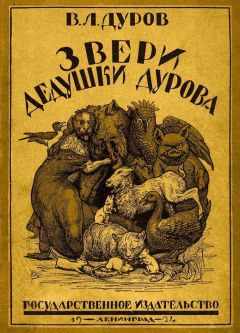– Чем отличается истинный талант от посредственности? Неповторимостью, господа! Не-по-вто-ри-мо-стью. Сейчас Россия знает двух Дуровых. Это действительно так, – нас двое. Но…
Далее Анатолий Леонидович без ложной скромности утверждал, что единственный и настоящий – он. Что жанр соло-клоуна, не просто кривляющегося на потеху публике, а разговаривающего с публикой, впервые в мире введен им.
И что поэтому-то в иных афишах он берет на себя смелость именоваться Анатолием Дуровым ПЕРВЫМ.
– И последним, господа, заметьте. Последним! Терплю существование второго из чувств родственных – исключительно. Что ни говорите, братья, вместе начинали, вместе такого лиха хлебнули… не приведи господь! Но уверяю, господа, с нашей смертью (ведь мы погодки, значит, примерно и умрем в одновременье), – с нашей смертью вопрос решится сам собою: в народной памяти останется один лишь. Анатолий. Что-с? Кем сей вопрос будет решен? Временем, господа. Историей. И больше Дуровых не будет никогда! Точка! Ибо, если даже и найдется в потомстве продолжатель… ну, Анатошка мой, скажем, – так это неминуемо воспримется как повторение. Вот так, милостивые государи… Вот так!
Покусал кончик шелковистого уса, нахмурился. Руку, сжатую в кулак, поднеся к глазам, пристально рассматривал причудливо-зеленоватый камушек перстня.
– Вот почему, – усмехнулся, не подымая глаз, – вот почему, господа, я запретил сыну даже и помышлять о манеже.
– Ну, а если он все-таки… – начал было Иван Дмитрич.
– Отрекусь, – жестко оборвал его Дуров. – И хватит об этом, господа…
Поднимем бокалы, содвинем их разом, —
Да здравствуют музы, да здравствует разум! —
запел, как бы зачеркивая все – угасший вечер, застолье, жестокие слова.
А к повару Слащову частенько захаживал гость.
Их дружба была давняя: повар некогда служил в самофаловской гостинице, а приятель его, по фамилии Янов, там же, при ресторане, посудным мойщиком.
Что их сблизило – бог весть, разные они были до удивления. Слащов слабогруд, тщедушен, но задирист, выпивши, рвался в драку, лаялся непотребно. Янов же, напротив, поражал своей сдержанностью и миролюбием. Саженного роста, плечистый, с бычьей шеей, он среди прочих людей выглядел Гулливером, оказавшимся в стране человечьей мелюзги. При внешней непохожести друзья и в мыслях рознились чрезвычайно: Слащов считал, что требуется учредить равенство сословий так, чтобы господ унизить маленько, осадить, а рабочего человека, наоборот, возвысить, и тех и других обязательно уравнять в правах. Янов же со своим тихим нравом и богобоязненностью не мог этого допустить и твердо верил, что как оно от века заведено, так и должно оставаться до скончанья века.
Но было у них и общее: любовь к цирку и особенно к французской борьбе. Причем повар представлял собою, по-нынешнему сказать, болельщика и только, а Янов прямо-таки изнемогал от страшной телесной силы и мечтал в действительности схватиться с каким-либо знаменитым силачом, испытать, что он может, на что способен… И ежели способен впрямь, так и мойку в самофаловской гостинице – ну ее ко всем шутам (он черным словом никогда не кидался), и дорога в жизни у него откроется другая…
– Как думаешь, – спросил он однажды Слащова, – барин твой мне в этом дельце не посодействует?
– Какой барин? – удивился повар. – Это Натоль Ленидыч, что ли? Так нешто ж он барин… Эх, голова! Он – артист! И очень свободно даже посодействует. Пошли до него… Попытка не пытка, спрос не беда, а чемпионат на носу…
Анатолий Леонидович в саду копался (там еще новая новость: грот строили, подземный подкоп рыли), цветы сажал собственноручно у подножья мраморной девы. Было раннее утро, тишина, гости еще не набежали.
– Ну, ты, брат, – ого! – восхищенно сказал, разглядывая мойщика. – Фигура… Только, знаешь, тут ведь одной силы мало, надо приемы знать.
– Прием один, – скромно потупился Янов, – ломать и кидать на ковер.
Анатолий Леонидович рассмеялся.
– Что верно, то верно… А пробовал с кем?
– С ребятами маленько баловался. С Ачкасовым-кондуктором, с Проней.
– И как?
– Да кондуктора кинул, с Проней, считай, вничью.
– С Проней?! Ух ты, черт! Ну, давай, давай…
– Вы ему записку в цирк напишите, к Микитину, – сказал Слащов. – Без записки прогонит.
Дуров черкнул на листке из записной книжки, и приятели собрались было идти, да тут господин Клементьев, откуда ни возьмись. Узнав, в чем дело, тоже про приемы начал, но в разговор встрял Слащов, подстрекнул управляющего, чтоб на деле, мол, попробовал Янова.
– Ведь вы и сами – тоже фу, какой солидный господин!
– А ну-ка, ну-ка! – развеселился Дуров. – Суди, Слащов!
Через минуту господин Клементьев сконфуженно поднялся с земли и, отряхиваясь, сказал:
– Однако ты, брат, облом! Этак и кости переломать – раз плюнуть…
Полотняный купол цирка на Мясницкой тускло, красновато светился, как восходящая фантастическая планета из нашумевших уэллсовских романов.
Множество народу толклось у входа, глазело на небывалые изображения. В дрожащем сиянье вольтовых дуг грубо написанные исполинские фигуры возвышались над окошечками касс: борец и клоун. Залихватски закрученные колечками усы и пестрый наряд последнего приводили зевак в особое восхищенье. «Ну, этот врежет! – слышалось в толпе. – Нашему Дурову на зуб не попадайся!» И смеялись, заранее уверенные в том, что действительно в р е ж е т, да так, что, будь спокоен, не поздоровится…
Вокруг борца шли свои пересуды. Гадали, кто маска, перебирали имена знакомых городских силачей.
– А Проня? Проня? – волновались. – Проня-то будет ли?
– Что – Проня! Тут нынче сам Фосс борется…
– Шел бы ты со своим Хвосом… знаешь куда?
– Ах ты! Хам!
– От хама слышу…
Сцепились двое. И, верно, не миновать бы драки, но со стороны базара послышался заливистый треск барабана, грохот колес по булыжной мостовой.
– Дорогу! Дорогу! – птичьими голосами кричали откуда-то вдруг появившиеся карлики, крошечные человечки с игрушечными барабанчиками. – Дорогу Анатолию Дурову!
– Королю смеха дорогу! – взревело бог знает откуда, словно сверху, из низкой тучи, на черноте которой нет-нет да и проскальзывали голубые змейки приближающейся грозы.
– Королю смеха! – чирикнули карлики.
Толпа расступилась, и по залитой молочно-белым светом площадке перед балаганом, направляясь ко входу, разбитыми копытами прошлепала седая кляча с какой-то жирной надписью на ребрастом боку.
– Вот это махан! – загоготали в толпе. – Ух ты!
– Не то на живодерню?
– А Дуров где же?
– Гля, брат… на ей – вывеска! «Ра-бо-чий… во-прос»…
– Га-га-га!
– Видать, не жрамши, вопрос-то!
– Ребяты! Чего волокет-то… Деньги!
Кляча тащила размалеванную тележку, нагруженную мешками; множество нулей опоясывало бока мешков, тем самым обозначая (как это делалось на журнальных картинках) несметное богатство.
– Мильены волокет, а ты – махан!
– О, господи! Боров, гляди, на мешке-то!
– А на ем что написано? Вон, на брюхе-то!
– «Ка-пи-та-лизм»! – прочел грамотей.
– А ить верно, на купчину смахивает! – хохотали искренно, удивлялись, предвкушали веселое зрелище.
Свинья восседала важно, похрюкивала.
За тележкой брел козел с прикрепленной к рогам табличкой «Пресса», тащил клетку на колесиках, где, всполошенные ярким светом и гомоном, надсадно орали утки. Тут уже и пояснять не приходилось, всякому было ясно, что это за утки.
Верхом на огромной розовой свинье смешную процессию замыкал Анатолий Дуров.
Первый и единственный, как гласила афиша.
Рыженькая была в ударе.
За всю короткую собачью жизнь ее никто не привечал, никто не почесывал за ушами, не говорил ласковые слова, а только били чем попадя, сердито орали и гнали прочь.
В большом, похожем на лес старом парке собак бродило множество, все были голодные и злые. Урвать от них что-нибудь, хоть обглоданный мосол, Рыженькая не могла по своим слабым силенкам и ходила вечно голодная. Когда же осмеливалась попросить у людей, ее жестоко колотили, насмешливо и злобно кричали бранные слова. Так горестно жила она, бедняга, пока не появился в парке веселый темноусый красавец, который ее – впервые в жизни – приласкал, погладил нежно, пробормотал непонятное, но, верно, очень хорошее слово: «Со-ба-ка! Соба-а-ка»… И тут уж она на выдержала, взвыла от жалости к себе, от предчувствия чего-то светлого, что, кажется, собиралось увенчать ее горькое собачье существование.
– Со-ба-а-ка! Со-ба-а-ка!
Боже ты мой, сколько было связано с этими словами!
Милый, ласковый голос, щекотанье за ушами, спокойный сон на собственном тюфячке, счастливая, сытная жизнь… Попроси хозяин, дай знать – и чего бы она не сделала для него! В огонь бы, в воду кинулась… На стаю лютых зверей… На любого, самого свирепого злодея…
Но он ничего не просил, он словно и не замечал ее. Изредка лишь брал с собой, выводил на ярко освещенный пустой круг, по сторонам которого была темнота и бесчисленное количество шумящих, свистящих людей… И музыка, музыка…