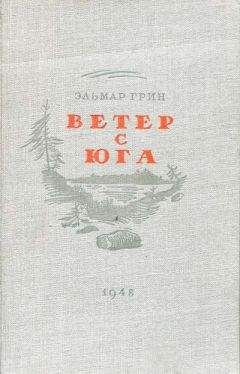Но херра Куркимяки горевал недолго. Не дали ему русских военнопленных, ну что ж! Зато в стране было немало русских ингерманландцев и карелов. Это был как будто вольный народ. Правда, когда их снимали с богатых земель Восточной Карелии и из-под Пиетари и везли в Суоми, то не спрашивали, желают они этого или нет. Но чтобы успокоить их, им пообещали у нас землю. Иначе их было бы очень трудно оторвать от хорошей русской земли. Им пообещали дать у нас землю, а так как ее для них еще не приготовили, они работали у наших крестьян за харчи и деньги.
Херра Куркимяки сумел перевезти к себе несколько семей ингерманландцев, и они стали работать у него в поле и в лесу, на скотном дворе и на строительстве мельницы и молокозавода.
Конечно, херра Куркимяки с ними расплачивался не так, как с русскими военнопленными. Кроме муки, картошки и молока, он платил им также марками. Но все-таки он оставался с прибылью. Что стоят в наше время марки? А ингерманландцы шли на такую плату.
Они ждали, когда им, приехавшим из необъятных русских полей, дадут землю в Суоми, рожденной на мху и камне. Хорошее терпение было у этих ингерманландцев, если они рассчитывали, что им дадут землю в Суоми.
Да, херра Куркимяки умел устраиваться и брал от войны все, что мог. Недаром он так прочно ступал по земле своими тяжелыми ногами.
Но бог с ним. Я тоже получал на войне все, что мог. Я получал шестнадцать солдатских марок в день. В месяц четыреста восемьдесят марок, и Эльзе я отсылал четыреста марок чистых. Если прикинуть в уме, что это тянулось не один год и что Эльза не все тратила на черном рынке, то можно было надеяться, что корова находилась теперь от нас вовсе уж не так далеко.
И выходило так, что и я должен был радоваться и молить бога, чтобы он продлил войну как можно дольше. Ведь война давала мне корову. Как не радоваться и не молиться о ее продлении?
Но бог лучше знал, что делать. Война кончилась. И это было самое лучшее, что можно было для Суоми придумать.
Я плохо помню, как все это произошло. Мы не успели опомниться, как все началось и кончилось. Правда, мы ожидали этого и усиленно готовились. Мы возили камни и лес. Мы рубили, копали и строили, не переводя дыхания. Нам увеличили паек и заставляли работать весь длинный летний день от зари до темноты. Но эта была пустая работа, и поздно было за нее приниматься.
Я работал на второй линии нашей обороны. Она считалась самой крепкой из всех. Кто-то дал ей название: «Ожерелье смерти». Все наши силы ушли на то, чтобы создать ее страшные звенья и срастить их между собой.
Русские ударили раньше, чем мы ожидали, хотя ожидали мы их все время. Но это ожидание длилось так долго, что мы устали ожидать. И в этот момент они ударили.
Все наши «ожерелья смерти» они прорвали и промчались одним рывком от Пиетари до Виипури. Я не знаю, как это выглядело, но говорят, это было похоже на то, как будто сам бог разгневался на маленькую грешную Суоми и метнул в нее полную пригоршню огня и железа вместе с русскими солдатами.
Я не знаю, как это выглядело, упаси меня боже знать! Я был как во сне. Все перемешалось для меня в этом мире, и я перестал помнить, где я и кто я. Но если это был сон, то очень страшный, вовсе не похожий на тот, где тихо и мирно стоял в тени скалы на покатом каменном бугре маленький красный домик с белыми окнами.
На мою спину лил холодный дождь, и в мокрое лицо дул ветер. Я прижался щекой к шершавому фундаменту небольшого дома, от которого остался только один кусок стены с расщепленными бревнами. Я прижался к нему и к земле и думал о том, чтобы меня не заметили. Только об этом я думал тогда. Больше у меня ничего не было в голове. А вокруг меня грохотал гром, и подо мной вздрагивала земля.
Тогда я не мог ничего понять и даже не пытался понять. Я только думал о том, чтобы меня не заметили и не раздавили. Но кто стал бы меня замечать? Что я значил тогда среди этой ревущей каши из огня и железа, по которой молча хлестал косой холодный дождь?
Я прижался к мокрому фундаменту, ища у него спасения.
Железные горы мчались, как ветер, сквозь дым и дождь, грохоча гусеницами, а перед ними, и рядом с ними, и позади них взлетали кверху столбы черной, сырой земли. Они взлетали выше танков и застывали так на секунду, похожие в это время на куст, у которого вместо листьев и плодов черные земляные комья. А потом эти комья падали вниз, рассыпаясь по башням танков, и уже новые глыбы земли висели в воздухе на их месте.
Русские танки катились вперед рядами, и одному из них некуда было свернуть, когда на его пути попался небольшой дом. Он прошел сквозь этот дом, как утюг проходит по складкам белья.
Я даже не слыхал треска. Слишком много было всякого другого треска. Я только видел, как часть крыши зацепилась за башню, протащилась за ней немного и потом отвалилась.
По танкам били наши пушки. От их выстрелов вырастали возле танков черные кусты земли и дыма с красными вспышками посредине. Некоторые снаряды попадали в танк. Они ударялись о броню, лопались и разлетались. Тогда я не понимал, что это значит, и мне было все равно, что это значит, лишь бы танк не раздавил меня. Но теперь мне ясно. Снаряды наши отскакивали от русской брони. Они не могли ее пробить.
Но вот один снаряд, кажется, все-таки проник в танк, и тот сразу вздрогнул и остановился. Появилось много черного дыма. А потом открылся верхний люк и оттуда, хлопая себя руками по горящей одежде, вывалился человек. Только один. И сразу же из люка вырвались широкие языки огня и заметались вправо и влево, слизывая с башни зеленую краску.
А потом страшный гром раздался над самой моей головой. Я закрыл глаза, прижимаясь к земле еще плотнее. Камень фундамента дрогнул, толкнув меня в плечо и в скулу, но не отвалился. Подо мной сильно встряхнулась земля, и гром покатился куда-то дальше в сторону севера, сверля и колыхая воздух на своем пути. Надо мной прошел русский танк.
Когда я снова поднял голову и открыл глаза, я увидел кое-что пострашнее танков. Я увидел русских. Они бежали в мою сторону.
Я увидел все поля и нивы от разбитой деревни до отдаленного леса, и все эти поля и нивы были покрыты бегущими прямо на меня русскими солдатами. Господи боже мой! Это шла на нас Россия. Мы раздразнили ее, и она двинулась с места и пошла в нашу сторону всей своей громадой.
На их пути еще продолжали кое-где вырастать кусты из черной земли и камней, и с каких-то скалистых бугров засвистели им навстречу наши пули, но они бежали вперед…
Я только таращил глаза на их мокрые лица, по которым хлестал косой дождь, на их раскрытые рты, из которых вырывалось частое и тяжелое дыхание. И у меня рябило в глазах от множества этих лиц, которые казались мне похожими одно на другое.
Но вот один из них, бежавший впереди, заметил, должно быть, кого-нибудь из моих товарищей, которые, как и я, не успели вовремя убежать. Он вскинул на ходу автомат и дал короткую очередь. Пробежав после этого еще несколько шагов, он заметил еще кого-то уже в другом месте и снова выпустил из автомата несколько пуль.
Тогда я ни о чем не думал. Все в мире перемешалось в одну страшную кучу: разрывы снарядов, свист пуль, огонь, дым и дождь, но русский солдат проходил сквозь все это и что-то еще видел и соображал.
А потом он так же точно заметил меня, повернул автомат и в мою сторону, и я почувствовал, как мелкие крошки камня и цемента брызнули мне в лицо. Я припал к земле. Но уже нельзя было лежать больше ни секунды, если я хотел остаться в живых.
Я вскочил на ноги, забыв про свой автомат, и бросился наперерез бегущим русским, мимо облепленного грязью и окутанного дымом мертвого русского танка, мимо обломка крыши, туда, где виднелись кусты смородины и мелкие деревья позади огородов.
Я добежал до кустов и бросился наземь. А надо мной пропели русские пули — целая очередь из автомата. Я выждал, пока они умолкли, потом вскочил, пробежал немного и снова лег. Русские с криком пронеслись мимо. Они пробегали впереди меня и позади меня. Они пересекали весь этот большой, засаженный смородиной и малиной огород, в котором я думал укрыться, и я полз, как червяк, от куста к кусту, чтобы они меня не заметили и не прикончили.
Не знаю, сколько их пробежало и сколько осталось лежать скошенных нашими пулями. Но когда стало немного тише, я вскочил и побежал к деревьям позади огорода. А от них я взял направление на лес, который начинался в стороне от деревни. Это был мой родной финский лес. Он, как мать родная, укрыл бы меня от всех этих страшных дел, которые тут творились, и указал бы мне путь домой.
Но когда я перебегал последнюю поляну, перескакивая через убитых и раненых, кто то схватил меня за ногу и крикнул по-русски: «Стой!» А потом сразу же добавил по-фински: «Сейс!» и выругался по-русски. Я потерял равновесие и ударился о землю лицом и грудью.