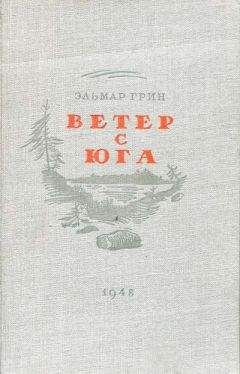Пока я поднимался, русский тоже успел подняться. Он понял, куда я держу путь, и загородил мне дорогу к лесу. Его зеленая рубашка была разорвана на груди и намокла от крови.
Он сделал ко мне шаг и вдруг наморщил от боли загорелое молодое лицо, которое напоминало чем-то молодое лицо Вилхо. Только оно выглядело рыхлее и желтее, чем у Вилхо. Он сделал ко мне шаг и еще раз сказал с болью в голосе:
— Сейс!
Я смотрел на него, и мне было любопытно и страшно. Вот стоит передо мной тот, о котором у нас столько говорили и писали, но о котором я ничего не знал. Он подошел ко мне так близко, что я отчетливо увидел свежую ссадину на его подбородке и брызги грязи на его щеке, а в карих глазах — боль и ярость. Целых двадцать семь лет мне твердили о нем, о его голой, пустой и огромной стране. И вот он стоит предо мной, наклонив слегка голову, и кричит:
— Стой, гад! Сейс!
Я не понимаю его слов. Я слышу только звуки, которые вылетают из его запекшихся губ, и думаю о том, как бы от него скорее уйти, пока не подбежали другие русские, и прыгаю в сторону.
Но он хватает меня за плечо. Он чуть поменьше меня ростом, но я чувствую страшную силу его пальцев. Мне стоит большого труда освободиться от него. Но он снова хватает меня, а я изо всей силы отталкиваю его прочь. Тогда он падает и, падая, цепляется за меня. Я тоже падаю прямо на него, на его окровавленную грудь.
Должно быть, я больно надавил на него во время падения, потому что он застонал. Но он не выпустил меня, и мы стали кататься по траве, хватая друг друга за горло и ударяя друг друга кулаками.
Все же я выбрал момент, когда он закашлялся и слегка разжал руки. Я вырвался и вскочил на ноги.
Можно было тут же ударить его камнем по голове и убить, но я не мог его ударить камнем. Не хотел я с ним вовсе драться. Как не мог он этого понять?
Ведь он не убил моего брата. Это я теперь точно знал. Я только отскочил от него, чтобы он снова не схватил меня за ногу своей железной рукой, и побежал. На этот раз я добрался до леса.
Лес укрыл меня от русских, укрыл от смерти. Я перешел много скалистых бугров, обошел много озер и болот, уходя все дальше и дальше в глубь родной Суоми. Шел мелкий дождь, и дул холодный ветер. Под ногами у меня чавкало, ноги промокли, но зато я ушел от того, что творилось там, вдоль дорог.
В опустевшей лесной избушке я нашел небольшой бумажный мешочек с пшеницей. Рядом с ним лежало несколько пустых крупных бумажных мешков. Я прихватил их с собой и опять углубился в лес.
Наступила темнота, а я все шел без пути, без дороги сквозь ветер и дождь, грызя сухие пшеничные зерна. Уже поздно ночью я вздумал перевалить большую гору, но сил хватило добраться только до ее вершины. Там я нашел сухое место под большим валуном. Развернув мешки, я залез в один из них ногами, другой разорвал вдоль и закутал им плечи и голову. Мешочек с пшеницей я подложил под голову, остальные разостлал под собой, лег на них и заснул.
Проснулся я утром, когда уже совсем рассвело и когда холод пробрал меня насквозь. Дождь перестал, но воздух был такой же прохладный. Я высунулся из-под валуна и увидел далеко внизу, у подножия горы, большое озеро, а слева от него — дорогу.
Хорошо, что я не стал ночью спускаться с этой горы. Я бы вышел к озеру. По блеску воды я определил бы, что путь вокруг него короче, если идти влево, и пошел бы влево, уткнувшись прямо в дорогу. А дороги были опасны, пока по ним рвались вперед русские.
Значит, обойти озеро нужно было справа, хотя и нельзя было охватить глазом, как далеко оно тянется и где кончается. И думая о том, что озеро мне придется обогнуть справа, я сидел на вершине лесистой скалы, возле большого валуна, смотрел на противоположный берег озера и старался постигнуть, что ждет меня там.
Берег поднимался от воды большими гранитными уступами, и на каждом уступе стояли высокие ели и сосны, прямые, как игла. Они стояли там уже сотни лет, уйдя корнями в трещины камней, и смотрели своими острыми вершинами в небо.
Нелегко им было ужиться на голом камне, потому что нет в нем соков для жизни. Много труда стоило их корням вскормить такие огромные стволы, отягощенные толстыми мохнатыми ветвями. Но вот они все-таки вскормили их, и теперь эти громады тянутся к небесам, прочно утвердившись на камне. И озеро отразило их всех в своей глубине, повторив каждый каменный уступ, каждую группу огромных зеленых красавцев.
Мне всегда приятно смотреть на такие места, где зелень силой своей и терпением победила камень, потому что я сам по опыту своему знаю, как трудно утвердиться жизни на голом камне. И тем обиднее стало мне, когда я заметил, что здесь какие-то дурни, с пушками и минометами, начали обстреливать русские танки, показавшиеся на дороге.
И уж если этим дурням непременно захотелось сложить без пользы свои головы, то хоть выбрали бы для этого место где-нибудь среди голых камней, которые не жалко кромсать и дробить и разбрызгивать мелким щебнем по земле.
Так нет же! Они открыли стрельбу прямо с этих зеленых уступов, нависших над тихим озером, и немедленно получили с дороги ответ. Большая ель, окутанная на мгновение клубом дыма, надломилась вдруг у основания и медленно начала падать. Она хлопнулась о край камня и мягко заскользила вниз с уступа на уступ, теряя на своем пути сучья и хвою.
Со стороны дороги начинали бить все новые и новые русские орудия. Каждый их выстрел слизывал с каменных уступов противоположного берега кусок зелени, оголяя их. Засевшие среди камней наши артиллеристы и минометчики пытались отвечать русским. Вспышки их выстрелов по-прежнему мелькали то здесь, то там. И еще больше вспышек было от пулеметов и автоматов. От их работы непрерывно трещала вся гора сверху донизу.
Но все новые и новые орудия русских били по всему крутому склону противоположного берега. Берег кипел весь в огне и в дыму, от подножия до вершины, и понемногу стряхивал с себя деревья и камни, которые скатывались в озеро.
Когда орудийный огонь затих и ветер сдул с каменных уступов последние клочья дыма, я не увидел на них больше прямых и гордых деревьев, смотревших в небо. Торчали кое-где только жалкие обломки с остатками сучьев.
И в это время к подножию скалы хлынула русская пехота и начала карабкаться вверх. Ей навстречу трещали автоматы и пулеметы, но какой был от них толк?
Я не видел, чем все это кончилось, и торопливо шел все дальше и дальше от этого страшного места, огибая озеро справа. Голод мучил меня, и я грыз пшеничные зерна. В лесу не выросло еще ничего съедобного: ни ягод, ни грибов. Но я все-таки шел в лес, а не к людям. Так страшны были люди в эти дни.
Я незаметно проскочил мимо русских на свою сторону, но из леса не выходил. Я встретил в лесу еще нескольких таких же горемык, как я, и мы решили укрыться в гуще ветвей от всего мира на то время, пока люди сходят с ума.
В пустом лесном домике мы нашли брошенную в подвале старую картошку и решили, что как-нибудь проживем. Однако нас выловили из леса свои же. Они не спросили у нас, голодны мы или нет. Они прогнали нас без остановки пешком сорок километров и совсем ослабевших заперли в лагерь, где уже были десятки таких же, как мы.
Нас долго держали там, очень долго. Никогда раньше я не думал, что родная Суоми может так немилостиво поступить со своими бедными сынами. Мы работали, как лошади, а кормили нас, как цыплят.
Это очень тяжело, когда живешь и чувствуешь, как день за днем уходят из твоего тела соки и не возвращаются обратно. Тяжело жить и думать, что не для тебя светит жаркое летнее солнце, не для тебя ясный божий день и вся красота земли.
Эльза, конечно, ничего не знала о моей судьбе, и я ничего не писал ей. Зачем писать? Чтобы она тревожилась и возила мне последние крохи? Пусть лучше ничего не знает. Я молился только об одном, чтобы дотянуть до конца и не свалиться раньше времени.
Нам страшно было смотреть друг на друга — такие мы стали. И мы уже не шутили, не смеялись, не дружили друг с другом, хотя арестовали нас всех за одинаковые мысли и проступки. И теперь я знаю, как просто можно нарушить людскую дружбу. Перестань давать людям есть, и они будут смотреть друг на друга волками.
Но в тот день, когда до нас дошла весть о конце войны, мы все-таки взглянули друг на друга не так угрюмо. И всю ночь мы переговаривались, лежа на деревянных нарах:
— Вот кончилась война, а кончилась ли она для нас?
— А почему бы ей не кончиться и для нас?
— Мы не поверили в свои силы… мы ушли…
— И правильно сделали. Разве не ясно теперь, что верить было не во что?
— Как не во что? Ведь Россия пошла на мир. Если бы мы оказались слабыми, она бы совсем раздавила нас.
— У России нет привычки давить кого-нибудь.
— Кончилась война для Суоми. Но как же теперь мы?.. Неужели нас не скоро отпустят?