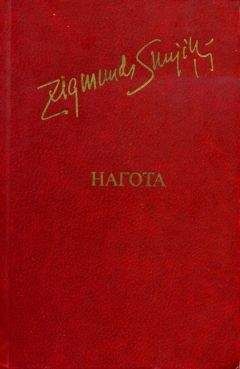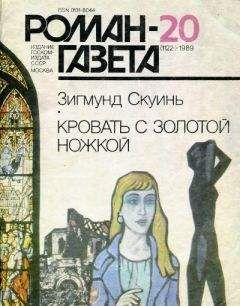А может, я в самом деле идиот? И вовсе она не спятила.
Турлав загасил недокуренную сигарету, бросил ее в урну и вернулся в зал. Там все бурлило. Репродуктор вещал почти без передышки. А народ прибывал. Он поднялся на второй этаж. Оттуда открылись разливы городских огней.
Репродуктор объявил, что рейсы на Ленинград, Петрозаводск, Таллин и Ригу откладываются на неопределенное время.
Как того и следовало ожидать, подумал он. И надо же такому случиться именно сегодня.
— Ну так что, может, обратно поедем?
Сначала он не сообразил, что обращались к нему. Обернулся. Молоденький таксист, должно быть после сытного ужина, у дверей ресторана утирал платком вспотевший лоб.
Турлав колебался всего один миг. По правде сказать, и колебанием это трудно было назвать. Просто еще раз окинул взглядом просторное окно, за которым уютно мерцали разливы городских огней.
Через час он уже входил в свой прежний номер. Его возвращение казалось вполне разумным, пожалуй, единственно возможным шагом. В номере все осталось как было: недопитая бутылка минеральной воды, коробка спичек, полотенце, которым перед дорогой вытирался.
Первым делом подсел к телефону, по памяти набрал номер. На пятый звонок, когда уж было собирался положить трубку, она отозвалась.
— Добрый вечер. Это я, — сказал он.
У него дрожал голос, он это чувствовал. Запыхался. По глупости не стал дожидаться лифта, взбежал вверх по лестнице. В трубке что-то мерно журчало. Должно быть, Майя пустила воду в ванну, а дверь в ванную осталась открытой.
— Откуда вы звоните?
Ее вопросы поражали своей определенностью.'
— С девятого этажа.
— Вернулись?
— Да.
Он собирался добавить, что рейсы в Ригу отложены, что поедет поездом, но промолчал.
— Подождите минутку, — сказала она.
Он расслышал, как прошелестели по полу ее шаги. Шумовое оформление прекратилось. Она вернулась.
— Значит, не улетели?
— Нет.
— Невероятно.
— Что вы сейчас делаете?
— Гадаю.
— Не собираетесь в город?
— В город? Когда? Сейчас?
— Может, вниз, в вестибюль?
— Я свою газету дочитала.
— Очень жаль.
— Почему?
— Потому что я свою не дочитал. А в номере скучно сидеть... Простите, цитирую по памяти.
Послышались короткие гудки. Неужели бросила трубку? Или какие-нибудь технические неполадки?
Он снова набрал номер. Никто не отозвался.
Нет, конечно, не стоило звонить. Что он мог ей сказать? Глупо. Невероятно глупо получилось. В понедельник будет стыдно смотреть ей в глаза. Да как вообще такое могло прийти в голову.
Он машинально терзал кнопку настольной лампы, свет зажигался и гас. И тут в дверь постучали. Сердце у него так и подскочило. Несколько шагов, и он в прихожей. Потом сообразил, что свет некстати погасил, ринулся обратно к выключателю.
— Да, да. Прошу вас! Входите!
Вошла. И сразу по глазам он увидел и понял, что глупыми были не его поступки, а его сомнения и старания самого себя обмануть. Произошло то, что и должно было произойти. Иначе и быть не могло.
— Просто я хотела удостовериться, что вы действительно вернулись, — сказала она. — По телефону любят разыгрывать.
— Результаты проверки вас удовлетворяют?
— Теперь мы с вами на равных, — сказала она. — Я приехала к вам, вы приехали ко мне.
...икие Луки. Через пять минут. Вставайте. Какие еще луки. Не нужны мне никакие луки. Дайте выспаться. Устроили тут тарарам. Весь вагон на ноги подняли. Станция. Какая станция. Великие Луки. Только Великие Луки. Слава богу, великий мастер храпа собирается к выходу. Ну и жарища. Вечно у них не работает вентиляция. Тут недоносок и тот не озябнет. Но почему так дергает. Колесо на колесе и колесом погоняет. Я вращаюсь потому, что вращаешься ты. Ты вращаешься потому, что вращаюсь я. Колесо, шестерня, маховик. Жизнь ведь тоже вращение. Вокруг своей оси и вместе со всем сущим. Даже сейчас, растянувшись по полке, я вращаюсь вокруг своей оси и вместе со всем сущим. Чтобы воссоздать мозг обыкновенного человека, для этого пришлось бы небоскреб высотой с «Эмпайр стейт билдинг» начинить сверху донизу наисовременнейшей электроникой. А если б вздумали при этом обойтись простыми лампами, голова моя была бы величиной с Луну. И чугунное колесо вращается, да не тем вращением, что Луна. Все дело в конструкции. Чересчур большая голова у человека, чтобы быть ему простым колесиком. Вот опять сбавляется скорость. Качает, как в колыбельке. Покачайте меня, воды Даугавы. Славное было время. Звезды в небе и звезды в воде. Речные перекаты плели пенные кружева. Чем небесные звезды реальнее тех, что мерцают в воде. А потом равнодушный, холодный поток помчит тебя прочь от жизни. В омут потянет. Выкинет на камни перекатов. Граждане пассажиры, на первый перрон второго пути прибывает скорый поезд Москва — Рига, стоянка пять минут. Интересно, Ливия придет встречать на вокзал. Она сразу все поймет. На лице прочитает. Расслышит в голосе. Если и не сразу, так немного погодя. Особым чутьем, благоприобретенным за двадцать супружеских лет. При первых же подозрениях она превратится в точнейший прибор, что-то вроде сейсмометра. И все обретет в ней почти сверхъестественную чувствительность, какая собирается на кончиках пальцев шлифовальщика оптических линз. Неужели обязательно казаться порядочней, чем ты есть на самом деле. И потом, что означает в подобных делах быть порядочным. Я не только гражданин, человек с интеллектом, моральными устоями. Я к тому же еще и самец, в котором кричит инстинкт сохранения рода. Я лев и вместе с тем его дрессировщик. Я думал, я безгрешен и порядочен и до вчерашнего дня без боязни совал свою голову в собственную пасть. Никак еще не приду в себя. Сам себе удивляюсь. У меня и в мыслях такого не было. Я этого не хотел. По крайней мере, рассудком. Той осенью, когда работали в колхозе, все было иначе. Ванду я сам соблазнил. Я убедил себя, что так надо. На самом деле она мне была не нужна. И самец во мне оказался более дальновидным. Он сохранил верность и уклонился от участия. А я уберег свою порядочность. Самое ироническое воспоминание в моей жизни. Внимание, граждане пассажиры. От первого перрона второго пути отходит скорый поезд Москва — Рига. Манюша, Манюша, иди сюда. Тут свободное место. Иди сюда, Манюша. Лил дождь, когда мы возвращались в Ригу. У ворот стояла Ливия. Пришла с зонтом, чтобы муженек не промок. Я себя чувствовал последним негодяем. На этот раз — ничего подобного. На этот раз Ливия за глухой стеной. На этот раз ее любовь мне не поможет. Как и моя любовь не поможет ей. Милая Ливия, хотим мы этого, не хотим, но наша любовь прошла. Под котлом жизни должен пылать огонь любви. У нас теплятся лишь угольки, раздуваемые воспоминаниями. И все. Больше ничего не будет. Ливия, пойми, что больше ничего не будет. Единственное, что нам остается, — дожидаться старости. Заслонка задвинута, угли в печи понемногу угасают. Мои чувства к Майе не могут быть дурными потому, что они естественны. Я не меняю тебя на нее. Я хочу тебя продолжить с нею. Ее молодость дает мне надежду достичь того, что недостижимо для нас с тобою. Что мы упустили по собственной глупости. Легкомысленно упустили. Мне сорок шесть лет. Сорок шесть. Скажи, почему я должен признать себя побежденным. Я могу еще вырастить трех сыновей, которые и дальше понесут имя Турлава. Я здоров, полон сил. Почему же на мне должна прерваться цепь, с меня начаться увядание. Мне всего-навсего сорок шесть. Ты говоришь, эгоизм. Неправда. Я как раз хочу загладить свой эгоизм. Какие мы были глупцы. Я жалел тебя, ты жалела меня. И во имя той жалости мы безжалостно лишили себя самого дорогого, что наша любовь могла дать. Вместе нам уже не исправить ошибки. Лишний раз могу тебя пожалеть. Да какой прок от жалости. Правда куда более безжалостна, чем жестокость. Так ради чего нам оставаться вместе. Ради воспоминаний. Привычки. Накопленного добра. Вите мы больше не нужны. За свою жалость я понес суровое наказание. Не требуй же последней, высшей меры. Мне бы хотелось сохранить надежду. Неужели так трудно понять. Неужели это так бесчеловечно. С яблонями тоже бывает. Не плодоносят. Тощая земля. А ты окопай деревцо, поменяй землю. Бах-бах-бах. В ночной тишине посыплются в траву яблоки. Бог ты мой, сколько яблок. И какие душистые. Живая плоть. Яблоки жизни. С нежной, молочной белизны кожицей. Когда на них падает хрупкий прозрачный свет. И скользит над ними моя ладонь, легкая, как дуновение ветра. Бах-бах-бах. Должно быть, тормоза под вагоном. Поезд следует дальше. Станционные огни светят в окно, мечутся по стенам, совсем как потревоженные летучие мыши. Твоя юность пахнет яблоком. Но я хитер, против ветра крадусь к тебе, точно волк к косуле. У кожи моей запах прошлогодних лежалых яблок. Не обкрадываешь ли ты себя. Зачем это тебе. В самом деле не понимаю. Все быстрей вращаются колеса. Качается полка. Качается. Качается. Я бегу. Разгар лета. Цветут липы, лепестками усыпан асфальт. На бегу дышу полной грудью. Бегу по старому деревянному мосту, что в конце теперешней улицы Горького, по мосту, которого давно уже нет. Пробегаю развалины дома Черноголовых, и развалин тех давно уже нет. Сердце в груди колотится, пот заливает глаза. Бегу, ищу Ливию. Мне кажется, я ее потерял. Мы потеряли друг друга. Бегу, озираюсь по сторонам. Вот она стоит. Хватаю за руки, поворачиваю лицом к себе. Все это так давно. Я успел позабыть об этом. Нет, тогда так и было. Было, было. Бах-бах-бах. Опять тормоза. За окном огни. Разучился спать в поездах. Ух, какая жара. Хочется яблока. Я сам стоял перед собой — так зримо, так близко. На расстоянии вытянутой руки. Будто бы даже в красках. Все же нет — в черно-белом изображении. Надо попробовать заснуть. До Риги еще далеко. Что за шум. Мечется сердце. Нет ему покоя.