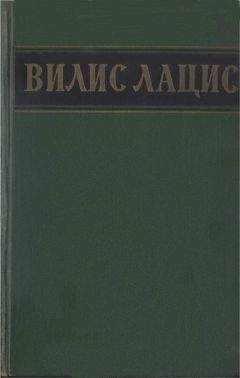Антон стал уделять гораздо больше внимания хозяйству: починил изгородь скотного двора, сделал несколько новых мостиков через канавы, позвал печников и велел замазать дымившую старую печь; но это было каплей в море запущенности и разрухи, кратковременный отчаянный порыв не мог изменить к лучшему положение в Сурумах.
Нужны были деньги, много денег, и в первую очередь следовало обуздать неумолимые воды Змеиного болота, которые из года в год наступали на земли Сурумов и других крестьян. Однако никаких денег у Пацеплиса не было, а кроме того, борьба с болотом не по плечу одному человеку, — здесь нужна коллективная сила многих людей. Антон понимал, что ему не дано ничего изменить, поэтому сдался без борьбы.
Еле держалась на пригорке поставленная еще предками изба, покосившаяся набок, с маленькими низкими оконцами, с дырявой соломенной крышей, и не было смысла заниматься ее починкой, следовало строить новый дом. Полуразвалившийся хлев держался только благодаря многочисленным подпоркам; коровы стояли по брюхо в навозе и круглый год ходили такие грязные, что трудно даже было определить их масть. На лугу, кроме жесткой болотной осоки, ничего не росло, а летом, когда косарь выходил на работу, земля колыхалась под ним и болотная жижа обдавала ноги. Кустарник отвоевывал обратно поля, которые человек когда-то отнял у него. У дома росло без всякого ухода несколько фруктовых деревьев и кустов сирени. Две лошади, три коровы, свинья и несколько овец — вот все, что можно было держать на шестидесяти пурвиетах усадьбы Сурумы.
— Не стоит надрываться… — решил Антон и оставил все по-старому. В глубине души Лина тоже считала, что не всю жизнь придется провести в Сурумах, а поэтому лучше, если муж сохранит силы для благоустроенных полей Мелдеров.
Она слышала о грехах молодости Антона, знала, что какая-то девушка родила от него, но ей и в голову не приходило посоветовать мужу помочь той. Старые проказы — дело прошлое; сегодня Антон — ее законный муж, и надо делать все, чтобы их жизнь не тревожили тени былого.
Меньше чем через год супружеской жизни, поздней осенью, Лина подарила Антону сына — здорового, крепкого мальчика, которого назвали Бруно. Родители были очень счастливы. Старый Мелдер подарил на радостях зятю деньги на новый костюм. Но счастье скоро омрачилось большим горем: Лина схватила родильную горячку и умерла, не успев понянчить сына.
Мелдеры хотели немедленно взять маленького Бруно к себе на воспитание: мать Лины чувствовала себя достаточно бодрой, чтобы вынянчить внука, но тут Антон ответил таким категорическим «нет», что дальнейший разговор об этом стал невозможным. Его соображения были просты: если мальчика отдать Мелдерам, они будут заботиться только о нем и забудут, что у будущего хозяина усадьбы Мелдеров есть отец, которому также кое-что необходимо в жизни. Если же Бруно останется под родительским кровом, дед и бабушка окажутся в некоторой зависимости от Антона и, желая помочь внуку, будут вынуждены поддерживать и отца.
Старая Сурумиене[9] сама нянчила и кормила Бруно, а Антону посоветовала скорее присмотреть себе новую жену.
— Неизвестно, долго ли я еще проживу, — говорила она. — Без хозяйки весь дом развалится. Хорошо еще, что я справляюсь с ребенком, а кто же будет заботиться о скотине, о кухне? Ты еще молодой, зачем тебе оставаться вдовцом, надо, сынок, жениться.
Антон Пацеплис и сам понимал, что матери одной не справиться с хозяйством, но выгодная женитьба была делом нелегким. Он не хотел брать первую попавшуюся девушку. Вот если бы опять удалось найти какую-нибудь хозяйскую дочь с приданым… Антон готов был жениться даже на вдове, но богатой и не очень старой, — исключение можно допустить только для очень богатой вдовы.
Он стал разыскивать, расспрашивать, пускался в ближние и дальние разведки, откликался на газетные объявления и сам поместил объявление в «Яунакас Зиняс»,[10] но ничего подходящего не встречалось. Посылал сваху к двум хозяйским дочкам, но получил отказ. Одной вдове Антон сам открыл сердце и по всем правилам хорошего тона просил руки — и опять неудача. Одну девицу ему почти удалось уговорить, но когда она приехала в Сурумы познакомиться с семьей и усадьбой жениха, у нее пропала всякая охота стать там хозяйкой.
Видя, что сыну не везет, и признав его действия недостаточно энергичными, старая Сурумиене слегла и объявила, что дни ее сочтены. Понимая, что в случае смерти матери не будет никакой возможности удержать у себя Бруно и придется отказаться от надежд на помощь Мелдера, Антон снова заметался по волости. Убедившись наконец, что с богатыми невестами ничего не получается, Пацеплис обратил свои взоры на более обыкновенных девушек и нашел наконец новую жену.
Это была молодая девушка по имени Кристина, служанка на мызе пастора Рейнхарта. По виду ее нельзя было даже сравнивать с покойной Линой: красивая, стройная, только характером слишком тихая и робкая.
Старые Сурумы поморщились, узнав, что избранница сына происходит из батрацкой семьи, но в конце концов примирились с выбором Антона: в Сурумах прежде всего нужна была даровая работница. Урожденную хозяйскую дочь нельзя было эксплуатировать, как простую батрачку. Через тринадцать месяцев после свадьбы с Линой Мелдер Антон Пацеплис снова стоял перед алтарем, и золотое обручальное кольцо, которое пастор Рейнхарт в свое время надел на палец Лины, перешло ко второй жене хозяина Сурумов. Старые Мелдеры шипели от злости и стыда, что зять, не выдержав положенного срока после смерти их единственной дочери, снова женился, но изменить ход событий не могли.
Сурумиене сразу же после свадьбы сына, которую на сей раз сыграли тихо и скромно, выздоровела и поднялась с постели, так как в доме нужен был человек с опытом, знавший, как надо распоряжаться и извлекать пользу из работницы.
Подоив обеих коров — третья еще не отелилась, — Кристина процедила молоко и слила утренний удой в большой бидон, оставив только пол-литра для маленького Бруно. Услышав, что невестка уже возится около плиты и тихо переставляет посуду, Сурумиене высунула седую голову в дверь и зашипела:
— Нельзя ли потише! Еще ребенка разбудишь…
Кристина вздрогнула и виновато опустила глаза, будто действительно допустила большую оплошность.
— Что готовить к завтраку? — немного погодя спросила она, видя, что свекровь все еще наблюдает за ней. В длинной рубахе, босая, растрепанная, старуха казалась настоящей ведьмой. Беззубый, впалый рот с плотно сжатыми губами злобно кривился, подслеповатые глаза глядели холодно и пытливо.
— Завари мучную кашу и поджарь всем по ломтику мяса, я вчера нарезала; возьми сама в чулане на полке.
— Разве там для всех хватит? — необдуманно спросила Кристина.
Старуха снова зашипела:
— А, тебе опять не хватает? Не можешь отвыкнуть от пасторских хлебов. Чего же ты пришла к нам, к таким простым людям, — надо было оставаться там. Мы бы уж как-нибудь обошлись без тебя.
Кристина ничего не ответила, но свекровь не уходила. Как вскочила в одной рубашке с постели, так и стояла в кухне, назойливо наблюдая за каждым движением невестки. Она смотрела, как та насыпала в чашку муку, как принесла из чулана нарезанные вчера ломтики свинины.
— Куда ты их кладешь? — крикнула Сурумиене, когда Кристина, не найдя свободного места, поставила тарелку с мясом на опрокинутое ведро. — Чтоб кошка стащила? Прямо как ребенку, все надо показывать. Неужто мать тебя ничему не учила?
Когда мясо на сковородке зашипело, старуха подошла к плите, оттолкнув невестку.
— Пусти меня, иначе опять пережаришь или оставишь с просырью. Могла бы принести хворосту, здесь не хватит, чтобы сварить свиньям варево, — и, схватив кухонный нож, стала передвигать и переворачивать побуревшие ломтики свинины.
Кристина вышла во двор, набрала полную охапку сухого хвороста, вернулась в кухню и опустила ношу на пол у плиты.
— Сколько раз говорила: приноси хворост с вечера, чтоб подсох, — но разве мои слова действуют? — ворчала свекровь. — Какая от такого хвороста польза — только шипит, дымит, а жара никакого.
К счастью в маленькой комнатке заплакал Бруно. Сурумиене сейчас же передала нож Кристине, обтерла руки подолом рубахи и поспешила к своему любимцу.
— Не забудь наносить воды в большой котел и начистить картошки, — напомнила она. — Хозяину сапоги тоже не вычистила… Опять поедет грязный, как медведь.
Ребенок кричал все настойчивее. Уже в дверях старуха состроила ласковое лицо, вытянула тонкие губы и зашамкала:
— Что с моим птенчиком? Наверно, постелька мокренькая? Иду, иду, мое золотце, иду… ты только не плачь, мой сладенький, хорошенький.
Но «сладенький, хорошенький» орал благим матом, пока бабушка не сунула ему в рот соску.