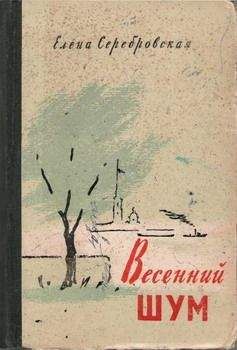Были у Маши и зарубежные друзья, — она хорошо помнила Фриду из Гамбурга, с которой познакомилась вскоре после пионерского слета. Переписка их оборвалась в те страшные дни, когда провокаторы с пылающими факелами поджигали рейхстаг. Сначала Маша ждала ответа на свое очередное письмо, ждала с нетерпением. Ответ должен был прийти, ведь она вложила в конверт несколько новых советских почтовых марок. Фрида обменяет их у филателистов на свои, ей не надо будет искать денег на отправку письма.
Но ответа не приходило. Каждый вечер Маша с тоской открывала голубой деревянный почтовый ящик на своей двери, но письма от Фриды не было. А газеты сообщали о сожжении книг в Берлине, о суде над Димитровым, о поджигателе ван дер Люббе. Вышла в свет «Коричневая книга» — обвинение против германского фашизма, и Маша купила ее. На фотографиях, помещенных в «Коричневой книге», Маша нашла снимки пионерских значков, — фашисты утверждали, что это награды немецким коммунистам и комсомольцам, выданные Советами… Пионерский значок! Точно такой же Маша подарила Фриде. Не его ли отняли гитлеровцы у славной гамбургской пионерки? Не в тюрьме ли ты, моя дорогая подружка? В нынешней Германии все может быть. Нет, ждать оттуда писем долго не придется. До лучших времен.
— Ей там, наверное, не легко сейчас, — говорил Сева, задумчиво рассматривая Фридину фотографию. — Сейчас бы ей письмишко от тебя — вот радость была бы! Да нельзя.
— Что ты! Ясно, нельзя. Они там, наверное, только того и ждут: придет письмо из Советского Союза — и сразу ее в тюрьму.
— Ее не только за письма, ее и за работу комсомольскую могут взять. Она же активистка. А что ты писала ей в последних письмах?
— Прочитай!
Маша дала брату черновики. Она всегда писала сначала на черновике, чтобы поменьше сделать ошибок. В этих письмах она рассказывала о первомайском вечере и о ночном санатории, в котором провела два месяца.
— Конечно, тут нет призывов поубивать всех фашистов, — задумчиво сказал Сева. — Но твои письма явно расценены как советская пропаганда. Ты писала подруге — это известно… И однако, эти гады могут истолковать эту переписку, как захотят.
Конечно, больше Маша не писала. С тяжелым чувством думала она о своей подруге: жива ли она? Гитлеровский террор загнал в болотные лагеря немецких коммунистов и комсомольцев, гитлеровская демагогия взвинтила все дурные чувства, какие только могли быть в людях. Разве мало там таких, которым лестно считать себя лучшей нацией мира, людьми первого сорта? Тем, у кого покладистая совесть, так легко сейчас сделать там карьеру!
Поступив в вуз, Маша потеряла связь с товарищами по фабзавучу и не знала, что там нового. За новостями она зашла к тете Варе.
Тетя Варя поздравила ее с поступлением в университет. Она гордилась своей юной учительницей. Конечно, работа, завком и семья забирали все ее время без остатка, но о Маше тетя Варя вспоминала.
— Ты что ж, теперь и заходить не хочешь, ученая? — спросила она Машу шутливо, пододвигая ей чашку чая. — А ты заходи, от масс не отрывайся. Знаешь, книги книгами, а люди людьми. Без людей тоже не больно-то обойдешься. Все же завод тебе дал кое-что, не забывай.
Тетя Варя рассказала о немецких специалистах. Они все гуртом возвратились домой, в Германию. Видно, такой им приказ вышел.
— Вот пожили у нас, поработали, — задумчиво говорила тетя Варя, — денег наполучали валютой. Мы их всем обеспечили, себе отказывали, а им все предоставили. И паек у них был хороший, и промтовары в особом магазине… Попомнят ли доброе? Или о нас же мерзости будут рассказывать? Интересно мне знать. Думаю, если и были из них мерзавцы, то не все. А честные правду расскажут, как мы социализм строим, как живем по-новому.
Она задумалась и замолчала. Маша молчала тоже. Нахмурив брови, тетя Варя водила кончиком гребенки по белой полотняной скатерти стола.
— Не так-то оно просто Россию-матушку из отсталых в передовые вытаскивать, — сказала она наконец. — Видишь, какое несчастье — безграмотность эта, отсталость техническая? Да будь у меня образование, разве я бы охранником сейчас была? Я бы наркомом была или городом руководила бы. Ты не бойся, шло бы дело не хуже, чем у других. А вот шиш — малограмотная баба. А таких миллионы. Я очень наших ребят заводских уважаю, которые в вечерних рабфаках да вузах учатся. Посмотришь — штиблеты в латках, питается в столовке черт-те чем, а со смены бежит — книжечки под мышкой, книжечки. Дорогие эти книжечки, спасение наше в них.
Тетя Варя опять помолчала.
— Ничего, Маша, не расстраивайся, — сказала она, взглянув на поникшую Машу. — Придет время — и к нам немцы приедут учиться. Придет! Но только — не по щучьему велению, время требуется, годы. А потом, погодя, и такое время придет, когда никакой народ другого бояться не будет, а все будут уважать друг друга. Это же не в крови заложено, все эти буржуйские понятия.
* * *
Маркизов позвонил Маше и поздравил с поступлением в вуз. Потом пригласил новоиспеченную студентку к себе. «Я познакомлю вас с интересными людьми, — сказал он. — Вероятно, ко мне зайдет актер Театра юных зрителей, которым вы так восхищались. В прозаической домашней обстановке он, возможно, покажется вам неинтересным».
Идти к нему или не идти? Сергей ничего не ответил на ее письмо с фотографией, Сергей не захотел с ней разговаривать, он ее разлюбил. И разлюбил он ее тогда, когда стал для нее таким необходимым…
Нет, если уж приняла решение, надо его придерживаться. Сергея надо забыть. Маркизов вполне годится для того, чтобы скоротать вечер в разговорах, от которых не будет ни пользы, ни вреда. И все-таки новые впечатления помогут рассеять тоску.
В глубине души Маша, конечно, уважала режиссера Маркизова. Это он незримо командовал таинственной жизнью в ярко освещенной коробке, которую Маша рассматривала из темного зрительного зала, затаив дыхание. Он придумывал, как должен вести себя актер, как должен говорить и молчать. Он знал, что произойдет во время паузы. По его воле дощатый помост, покрытый травой и кустарником, медленно поворачивался на оси, открывая зрителю кирпичную стену дома с крыльцом и окошком. Стена продолжала поворачиваться, и зритель проникал взором в комнату, оклеенную пестрыми обоями. Вот письменный столик и книжная полка над ним, и тоненькая девушка в полосатой футболке, задумавшаяся с книжкой в руках, девушка с очень яркими глазами, очень черными ресницами, очень светлыми прямыми, коротко остриженными волосами… Сама жизнь! И Маркизов управляет этой жизнью.
Парадная дома, где жил режиссер Маркизов, была украшена цветными витражами — лотосы, болотные лилии. Однако лестница была прокуренной и грязной, чувствовалось, что жильцов этого дома занимали только собственные комнаты.
На двери квартиры № 9, где жил Маркизов, висела табличка с надписью: «Вагнер, гинеколог — 1 звонок, Маркизовы — 2 звонка». «Сколько их там, Маркизовых? Наверное, целое семейство», — подумала Маша и огорчилась, сама не зная отчего.
Маша позвонила дважды. Ей открыла хорошенькая женщина в узкой черной юбке и нежно-розовой блузке. Грузный светлый узел волос оттягивал ее голову назад, отчего хорошенькое лицо с крошечным носиком приобретало несколько горделивый и даже заносчивый вид.
— Вы к кому?
Вопрос был, впрочем, задан очень приветливо.
— Я к Семену Григорьичу Маркизову.
— Пожалуйста, зайдите, он просил подождать, он будет дома через пять минут, не позднее. Извините, но я должна уйти…
Женщина провела Машу в комнату с широкой тахтой и маленьким письменным столом и попросила посидеть. Маша сидела и разглядывала комнату. Тяжелые плюшевые шторы вишневого цвета. На письменном столе — карандаши, кавказский кинжал, серебряный с чернью («ширпотреб для туристов» — подумала Маша), деревянная трубка, чубук которой был вырезан в виде головы Тараса Бульбы, револьвер в кобуре, или, может быть, просто пустая кобура?
На столе большая фотография. Маркизов стоял среди группы каких-то зарубежных гостей в клетчатых шарфах, обнимал одного из них и улыбался во все лицо.