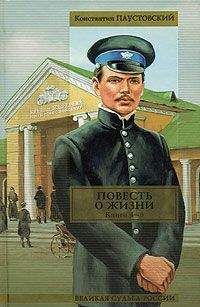ее было столько черной ненависти, что мимо паровоза без особой надобности пассажиры предпочитали не проходить.
Мы ждали мщения. Я снова вспомнил о пресловутом мамином законе возмездия. Услышав о нем, ксендзы оживились и дружно подтвердили, что такой закон безусловно существует и даже в дни гражданской войны не потерял свою силу, а Люсьена сказала, что никакого закона возмездия нет, а есть тюти мужчины, которые не решаются выкинуть бабу с ее комодом с первого же моста в реку.
Наконец возмездие наступило. День возмездия, как и надо было ожидать, заполняли рваные черные тучи. Они с невероятной быстротой мчались над голыми полями. Полосы тяжелого, как град, дождя били по облезлым стенам вокзала в Знаменке.
Казалось, сама богиня мщения выпустила на землю злые эти тучи, дожди и мокрый ветер.
Началось с того, что баба вместо обещанных пяти фунтов сала и двух буханок хлеба дала машинисту только фунт сала и одну буханку. Машинист не сказал ни слова. Он даже поблагодарил бабу и начал с помощью кочегара сгружать комод с паровоза.
Комод весил пудов пятнадцать, не меньше. Его с трудом стащили с паровозной площадки и поставили на рельсы.
— Два здоровых бугая, — сказала баба, — а один комод сдужить не имеете силы. Тащите его дальше.
— Попробуй сама двинуть его, черта, — ответил машинист. — Без лома не обойдешься. Сейчас возьму лом.
Оп полез в паровозную будку за ломом, но лома не взял, а пустил в обе стороны от паровоза две струи горячего свистящего пара. Баба вскрикнула и отскочила.
Машинист тронул паровоз, ударил в комод, тот с сухим треском разлетелся на части, и из него вывалилось все богатое приданое — ватное одеяло, рубашки, платья, полотенца, мельхиоровые ножи, вилки, ложки, отрезы материи и даже никелированный самовар.
Паровоз с ликующим гудком, пуская пар, прошел по этому приданому к водокачке, сплющив в лепешку самовар. Но этого было мало. Машинист дал задний ход, остановил паровоз над приданым, и из паровоза неожиданно полилась на это приданое горячая вода, смешанная с машинным маслом.
Баба сорвала с себя платок, вцепилась в собственные волосы, рванула их, упала ничком на землю и завыла истошным голосом. Руки ее с вырванным клоком волос судорожно дергались в луже около рельсов, как будто баба собиралась переплыть эту лужу.
Потом она вскочила и бросилась на машиниста.
— Глаза вырву! — закричала она и начала засучивать рукава.
Ее схватили.
Через толпу протискался маленький человек. Он состоял из огромной клетчатой кепки, новых калош и острого носа, торчавшего из-под кепки. Это был зять бабы. Он приехал ее встречать и опоздал.
Зять посмотрел на груды рваного приданого, вытащил сплющенный самовар, швырнул его под ноги бабе и сказал высоким скрипучим голосом:
— Вот, мамочка дорогая, спасибо вам нижайшее за то, что в такой справности доставили наше последнее добро.
Баба повернулась к зятю, схватила его за грудь и плюнула в лицо. Толпа хохотала.
На станции Бобринская мы простояли несколько дней. Впереди чинили полотно, разрушенное махновцами.
К югу от Бобринской бушевала, гикала, грохотала на бешеных тачанках, открывая с ходу пулеметный огонь, свистела, грабила, насиловала женщин и драпала при первой же встрече с сильным противником украинская черная вольница.
Из недавно еще патриархальных городков, розовых от зарослей мальвы, вынырнули атаманы-изуверы. Воскресли кровавые времена «уманской резни», засвистели шашки, срубая головки чертополоха и человеческие головы. Черные знамена с мертвой головой зашумели по мирным степям Херсонщины. И средние века померкли перед жестокостью, разгулом и внезапным невежеством двадцатого века.
Где все это скрывалось, зрело, копило силы и ждало своего часа? Никто этого не мог сказать. История стремительно пошла вспять. Все в мире смешалось, и человек, впервые после многих лет покоя, вновь почувствовал свою беспомощность перед злой волей другого человека.
Больше всех говорил об этом Назаров. Ксендзы помалкивали, Люсьена по целым дням спала, а Хват не любил таких разговоров, — они давали мало пищи для зубоскальства.
В четырех километрах от Бобринской был городок Смела — тот городок, куда я еще мальчишкой ездил с тетей Надей и видел бородатого молодого художника, влюбленного в тетю Надю.
На второй день стоянки, я пошел пешком в Смелу. Посещение старых, давно покинутых мест — занятие большей частью печальное. Печаль усугубляется тем, что то тут, то там наталкиваешься на совершенно позабытые вещи, будь то постаревшее крылечко, разросшийся тополь или заржавленный почтовый ящик, куда я когда-то бросил письмо с первым признанием в любви синеглазой киевской гимназистке.
В Смеле было тихо и пусто. Жители без надобности не ходили по улицам, чтобы не нарваться на пьяных деникинских солдат. Река Тясмин, так же как и в моем детстве, была затянута толстым ковром ярко-зеленой ряски и потому похожа на свежий весенний луг. Из-за заборов пахло бархатцами.
Все эти места — и Смела, и соседний город Черкассы — были связаны с жизнью моей семьи. Я бродил по тихим улицам Смелы, и моя жизнь, казавшаяся до тех пор короткой, вдруг предстала передо мной, как ряд длинных лет, наполненных множеством больших и малых событий.
Люди любят вспоминать, очевидно, потому, что на отдалении яснее становится содержание прожитых лет. У меня страсть к воспоминаниям появилась слишком рано, еще в юношеском возрасте, и приобрела даже как бы характер игры.
Я вспоминал не последовательное течение жизни, а отдельные, если можно так выразиться, ее рубрики. То я начинал вспоминать все гостиницы (конечно, самые дешевые, так называемые «меблирашки»), где я останавливался, то все реки, какие видел за свою жизнь, все морские пароходы, на которых мне приходилось плавать, или всех девушек, которых я мог бы, как мне думалось, полюбить.
Пристрастие к этим воспоминаниям оказалось не таким бессмысленным, как мне сначала казалось. Когда я вспоминал, например, гостиницы, я вызывал у себя в памяти все мелочи, связанные с ними, — цвет затертых дорожек в коридорах, рисунок обоев, гостиничные запахи и олеографии, лица гостиничных девушек и их манеру говорить, затасканную гнутую мебель, — все, вплоть до чернильницы из похожего по цвету на мокрый сахар уральского камня, где никогда не было чернил и лежали совершенно высохшие мушиные трупы.
Вспоминая, я старался все это увидеть как бы вновь. И только потом, когда я начал писать, я понял, что такого рода воспоминания очень мне помогли в работе. Они приучили память к конкретности, полной зримости, ко вторичному переживанию и накопили большой запас отдельных частностей. Из него я потом мог выбирать то, что мне нужно.
Обратно на станцию Бобринскую я возвращался в сумерки. Я шел по железнодорожной насыпи. Насыпь вошла в глубокую выемку. Высоко в небе висел месяц. Со стороны Бобринской долетали ружейные выстрелы.
Внезапно у меня замерло, а потом заколотилось сердце от мысли, что мне привелось жить в