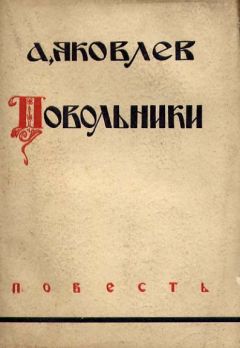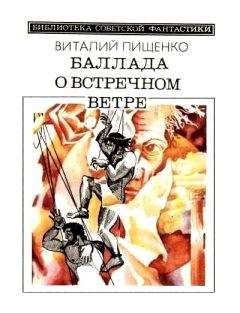Малыковка росла, росла, росла — и в целый город выросла — Белый Яр. Там, где было мшистое болото, улицы теперь прошли — Караванная, Моховая, Приютинская.
Народ крепкий в городе засел — бородатые мужики старообрядцы, настроили молелен на укромных местах по Малыковке, скитов по Иргизу, что против города в Волгу впадает, стал город пристанью волжским староверам и сектантам.
Новиковцы, спасовцы, перекрещеванцы, духоносцы, лазаревцы, сопуны, прыгуны, сионцы, дырники, дунькиной веры, австрийского согласу, левяки… Как рыбы в Волге.
Занимались сплавом леса, мукой торговали, кожами, обдирали мужиков саратовских и заволжских, строили мельницы, заводы, дороги, раздвигали город и в ширь и в глубь, несли культуру в глухой разбойничий край, а между делом, особенно по зимам, в трактирах и на базаре, толковали о Боге, о крестном знамении, о том, на какое плечо надо сперва крест нести: на правое или на левое — спорили, — и в спорах порой дрались свирепо, по ушкуйнически, вцеплялись друг другу в бороды, — ибо считали такую драку делом святым: побить еретика — сто грехов простится. Ведь святитель Николай, угодничек Божий, самый любимый, самый наш, самый русский, он же дрался с еретиками, бил их своими кулаками святыми по окаянным еретическим шеям.
А в праздники по зимам — с Николы зимнего — у кузниц во Львовской роще собирались мужики и ребята со всего города и устраивали драки стена на стену. И здесь-то на воле гуляла старая разбойная кровь.
Бились до полусмерти, ломали ребра и груди, сворачивали скулы, выбивали глаза. Безумели в драках.
И на побоище, как на праздник, съезжались именитые купцы посмотреть, на санях. Поднявшись на облучек, смотрели через головы толпы в самую гущу. И случалось — сами ввязывались. Когда темнело, приходил странный боец — широкобородый, в большой шапке, привязанной шарфом, чтобы в драке она не спала с головы, в рукавицах, в полушубке. И все знали, что это пришел драться отец Никита — поп из старого собора, — большой любитель драк…
А еще приходил молодой мужик — чернявый, с выразительными глазами, высокого роста, в плечах — косая сажень с четвертью.
Он молча становился в самую середину той стены, в которой бились кузнецы, и бросался на «квартальских».
И смутный гул пробегал по толпе:
— Боков пришел, Боков. Держись!
«Квартальские» бросались на Бокова гурьбой, а он чикрыжил их кулаками, словно гирями, — щепки летели.
И, разгорячившись, вдруг орал оглушительно, как ушкуйник:
— Держи!.. Бей!..
Враг бежал за овраг.
— Ай, да Боков. Вот это богатырь. Вот это боец.
— Подождите, мы вашему Бокову намнем бока.
— Что же сейчас-то не намяли?
— Го-го-га-га…
— Боков, вот тебе трешница на водку… Милый ты человек… Иди ко мне в кучера.
И Злобин — богатей, заводчик — обнимал Бокова при всей толпе, целовал его, растроганный.
И все стояли улыбаючись, довольные…
На другой день разговоров по городу — горы.
Так не переводилась в городе слава боковского рода, буйного, повольного, и так докатилась она до дней наших…
* * *
Гром, рев звериный, свист.
Скоро, скоро нас забреют.
Скоро, скоро заберут.
Гармоника саратовская — визгливая, с колокольцами, — растягивается на целый аршин, взвизгивает, — в ухо будто шилом острым.
Ти-ли мони, ти-ли-мони, ти-ли-мони та-а-а…
А певцы — в полпьянку, — идут середкой улицы, вдоль грязной дороги, молодцы, как на подбор, картузы на затылках, в теплых пиджаках, в высоких сапогах. Форсяки. И поют неистово, каждый старается перекрикнуть каждого, перепеть. Глаза — круглые, ястребиные, хищные, а рты, как западки.
Шинель серую наденут
И в казарму поведут.
Бабы, девки, ребятишки — мухами к окнам, смотрят жадно на грязную осеннюю улицу, на поющую толпу, провожают ее долгим взглядом. Прошли уже, а в окна все бьет дикая песня.
— Некрутье гуляет, волюшку пропивает.
— Никак, и Гараська Боков с ними?
— А как же? Он тоже в этом годе лобовой.
— Слава тебе, Царица Небесная, хоть бы убрали его от нас.
— Уберут. Здоровый он, ровно бык. И задеристый. Таким в солдатах самое место.
— Житья от него не стало.
— Вот теперь-то делов накрутит.
— Да-а, уж теперь держись. Набедокурит.
— Придется мужикам ночи не спать. А то, матушки, и окна выбьют и ворота унесут…
— Вот братец Пашка-то тоже такой был, когда молодой-то. И-и, беда.
— Ну, этот еще хлеще брата.
И начали бабы Гараську Бокова по косточкам разбирать. И шалыган-то он, и непочетчик, и разбойник.
— Кто у Петуховых-то забор поперек дороги ночью поставил? Он. Кто трубы у Свистуновых с крыши снял? Он. Кому же больше? Самый отпетый.
— Дай, Господи, чтоб не забраковали…
— Не забракуют.
А Гарасько — ему что? — он передом в толпе, орет во все горло, оглушительно:
Мы по улице пройдем,
Рамы хлещем, стекла бьем,
Рамы хлещем, стекла бьем,
На ворота деготь льем.
Гармоника саратовская, с колокольцами:
Ти-ли-мони, ти-ли-мони, ти-ли-мони-та-а-а…
Идет Гараська дубком, не гнется. В плечах косая сажень. Боковы все широкая кость.
Гармонист Егорка рядом, русый вихорь из-под картуза — рогом, Ванька Лукин, Петька Грязнов, Санька Мокшанов.
— Молодяк. Двадцать первый повалил. Самые в соку… Некрутье — отпеты головы.
А некрутье на перекрестке. Четыре квартала крестом отсюда.
— Ну, ребя, прощайся, — командует Боков.
И все двенадцать комом сжались, бок к боку.
— Дев-ки-и-и!.. Про-щай-те-е…
А дальше такое слово, что ай да ну.
Это называется: некрутье с девками прощается. С подружками, с лапушками, с гулеными. На три года солдатчины, в чужу дальню неизвестну сторонушку…
Повернулись лицами к другому кварталу и опять:
— Дев-ки-и-и!.. Про-щай-те-е…
А дальше такое слово…
И так во все четыре квартала. У окон бабы мухами, а где не видно из окна, шубейку на плечо и к калиткам.
— Глянуть, как прощаются.
Копошатся пятнами у калиток, вдоль всей улицы — грязной, унылой, осенней. А некрутью — будто весна. Грязь — она будто лучше: по пьянке упадешь, не ушибешься.
— Дев-ки-и… Прощайте…
Откричали на этом перекрестке, на другой двинули. И опять взвизгнула гармоника, и неистово заорали песни парни.
Так днями целыми, две недели, от Покрова до призыва ходили они, орали песни, прощались, дрались. Ночами мужики не спали: караулили, как бы у них окна не вылетели, или ворота не ушили. Сговарились с соседями, чтобы в случае чего, помогать друг другу.
— А то разя с ними сладишь?..
Особливо приходилось плохо тем, у кого девки-невесты. Тут уж на прощанье некрутье выкинет какое-нибудь коленце.
— Мы в солдаты, а ты останешься, другому достанешься. На же тебе!..
И вот: иль ворота измажут дегтем, иль в окна лаптем запустят. — А Писаревой Польке — этакой задорной девченке — под самой крышей налепили аршинную афишу:
— Здесь продаются живые раки.
На утро весь курмыш покатом катался от хохота.
— Ха-ха-ха. А, батюшки!.. Польке-то Писаревой… Продаются живые раки… Хо-хо-хо…
— Вот выдумали, вот наклеили.
— Да, уж теперь долго не отдерешь.
— Кто придумал-то? Неужели Гараська?
— Ну, где ему, тупорылому. Это Санька Мокшанов, не иначе.
— Гараська сам не выдумает. Его подзудят, он и лезет на рожон.
— Ах, проломна голова.
— Берегитесь, бабоньки, как бы вам чего не сделал…
* * *
И сторожили. До самого того дня сторожили, как пошел Гараська с товарищами на призыв.
Ну, тут уже дело сразу другой стороной обернулось.
День вовсе наране, а все курмыши на ногах: вроде как праздник — парни идут на призыв, а соседи с ними поглядеть. Все в праздничных пальто с барашковыми черными воротниками, а бабы — в шубах, крытых сукном, в ковровых шалях. Эти пальто, эти шубы круглый год лежали в сундуках, пересыпанные нафталином. Раза четыре за зиму только и надеваются: к обедне на Рождество, на Крещение (на Ярдань), да на масленицу в прощеный день. И вот еще в этот день, призывной, когда наши ребята идут царю-отечеству служить. И степенно идут. Вчера еще эти самые мужики с кольями ждали вот этих самых парней за воротами, чтобы в случае чего… А ныне — парни впереди, как герои, а все остальные за ними — рядками, говорят приглушенно, будто в церкви.
Аграфена Бокова вслед за Гараськой. Глаз не спускает — так он люб ей, этот разбойник… И все здороваются с нею приветно:
— Аграфена Митревна, мое вам почтение.
Как же, сына снарядила на службу на царскую — честь матери.
Около присутствия — все черно от народа. Весь город сошелся. Всякому лестно поглядеть, как призываются. На лестницах — в оба этажа народ вереницами — все больше мужики. На крыльце — не протиснешься, и вся площадь битком.