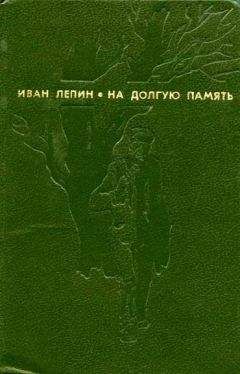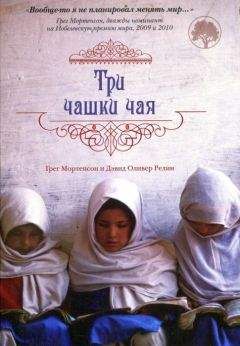Нет, надо снова идти в райком и проситься в школу. Только там он найдет удовлетворение, только там по-настоящему покажет, на что способен. К тому же у него есть маленькая зацепка: он слышал, что в Болотном, в той школе, где начинал, освободилось место учителя.
И Журавлев повернул к райкому, отнюдь не питая радужных надежд.
К счастью, первый секретарь был на месте, в который раз он выслушал настырного председателя «Пролетария», в душе сочувствуя ему, а на деле…
— Замена есть? — в упор спросил секретарь.
Замена? Об этом Журавлев как-то не думал, надеялся, что райком сам найдет замену.
— Со стороны мы прислать можем, да только не всегда это надежно — со стороны… В общем, так: подбирай кандидатуру, созывай собрание, будем решать, раз ты не можешь жить без школы.
Ну что ж, придется искать замену.
Жил у них в Михайловке хозяйственный непьющий мужик Бельчиков. Вот только ранение у него в грудь, в легкое, болеет он частенько. Ну да ничего, не вилами же будет работать Бельчиков, а руководить.
Чего греха таить, перед собранием Журавлев подговорил нескольких мужиков, чтобы они первыми подали голос за избрание нового председателя.
И все бы решилось, как Журавлев и намечал, но, когда подговоренные мужики из разных концов колхозной избы, где проходило собрание, начали нестройно выкрикивать: «Освободить Журавлева! Новый не хуже потянить!» — к столу президиума вдруг прошел Леонтий, повернулся к колхозникам и, рубанув ладонью воздух, решительно сказал:
— А я против, чтобы мы отпускали Павловича! Мы все его с малолетства знаем, он нас знаить — что еще нужно? Уважение? Есть ему уважение — спроси любого. А доброту его я на себе испытал…
Подговоренные мужики притихли, растерялись: не станешь же перечить Леонтию, коли он истинную правду говорит. А тут еще бабы поддержали Леонтия:
— Зачем нам новый, нас и старый устраиваить.
— Не отпускаем!
— Не отдадим Павловича!
А когда Журавлев увидел, что к столу пробирается — вслед за Леонтием — пастух, понял: дело провалилось. На всякий случай шепнул представителю райкома — молоденькому парню:
— Если произойдет осечка, переноси собрание на завтра.
Так инструктору и пришлось поступить — благо сам он в прошлом учитель и отлично понимал Журавлева. Он решил помочь ему. Дипломатично закончил собрание:
— Тут, товарищи колхозники, разные мнения среди вас были: одни — «за», другие — «против». Чтобы нам не пороть горячку, чтобы прийти к единодушному мнению (что же это будет за председатель, если его изберут не единодушно?), предлагаю всем вам еще раз подумать, все взвесить, а завтра мы окончательно и решим вопрос с председателем.
Сутки оставались на размышление у колхозников (а что размышлять: «против» высказались только подговоренные). Сутки оставались на размышление у Ивана Павловича (размышлять же ему было нечего: он твёрдо решил уходить в школу).
«Не отпустят, — злился он, — как пить дать, завтра за меня проголосуют — чувствую по настроению людей». В таком случае надо действовать! Еще раз нелишне поговорить по душам с мужиками, объяснить им: мол, место учителя освобождается не каждый день, — пообещать… магарыч.
…До полуночи он обходил дворы колхозников, да и на следующий день вел с ними беседы-уговоры. Больше с мужчинами, с подростками. Женщины его понимали плохо, магарычом же их не прельстишь.
Повторное собрание просьбу Журавлева удовлетворило, и он тут же, на собрании, передал Бельчикову колхозную печать.
ПОМЕТКИ И. П. ЖУРАВЛЕВА
Ну и память у тебя! Лет пятнадцать назад рассказывал тебе, как я стал учителем вашего класса, а ты почти все до подробностей воспроизвел.
Кстати, почему ты никак не называешь пастуха? Тихон Андреевич его имя-отчество.
А фамилия инструктора райкома — Ульянцев. Ныне он — директор школы в Рыльском районе.
Недавно был в Михайловке (редкий я там гость, как переехал в пятьдесят пятом году в Болотное), встретил Леонтия. Ему восемьдесят два года, еле ходит, слабо видит старик, а меня узнал. «Зря все же, Павлович, — говорит, — мы тебя с председателей отпустили. Это все мужики виноваты, добра им нетути, на магарыч клюнули…» И еще раз за корову благодарил.
Завтра мы с Пашкой Серегиным идем в первый класс, с завтрашнего дня перестаем курить и матюкаться. Напоследок же решили отвести душу — вдоволь накуриться. Мы забрались в двухметровую густую коноплю, что росла за нашими огородами, — подальше от людей. Пашка стащил дома несколько свежевысушенных табачных листьев, я же принес пяток спичек и квадратик спичечного коробка, пожелтевшую мягкую бумагу, найденную на божнице, — какую-то квитанцию за налоги.
Мне — восемь лет, Пашке — девять. Я мал ростом, тяжеловат, карапуз по сравнению с ловким жилистым другом. Правда, он редко меня побарывает — я все-таки потяжелее его, — но в беге наперегонки мне с ним тягаться трудно. Проворнее меня лазит он по деревьям, ныряет с берега, ездит на лошадях. Но и я кое-что умею делать лучше Пашки, и это не позволяет ему верховодить. Я уже свободно читаю, а он даже буквы не все знает, я брату письма пишу (он в ремесленном училище учится), а Пашка и ручку-то держать не умеет.
А еще я лучше его скручиваю цигарки. У него то бумага посередине лопается, то такая горбатая цигарка получается, что ее ни за что не склеить. У меня самокрутки выходят как фабричные: ровные, тугие. Я обычно сначала Пашке скручиваю, потом себе — это если табака хватает, как сейчас. А когда его мало, то одной цигаркой обходимся. Половину Пашка выкурит, половину — я. Или по очереди затягиваемся.
Но сегодня, перед первым сентября, надо накуриться всласть. Табак из одних листьев крепкий, ну да это не страшно: мы уже с год курим по-настоящему, взатяжку. Знаем: крепачок, чтобы не задохнуться, надо курить с умом — не стоит жадничать, весь дым заглатывать. Чуток выпусти, чуток вдохни, и ничего не стрясется.
У Пашки выступили слезы, он матюкается на злой дым, что настырно лезет в глаза, цвиркает сквозь редкие зубы слюной. Я курил без слез, но тоже ругался — просто так, от нечего делать. Хорошо сидеть в конопле, тихо, тепло. Над нами — солнечное небо с редкими белыми облаками, беззвучно порхают бабочки.
Вкусен предосенний табачок, приятно чуть кружится голова.
Я лежал на поваленной конопле, смотрел на причудливые, похожие на диковинных зверей, облака. Иногда с шумом пролетали стайки воробьев или скворцов — кормиться зернами конопли…
Хорошо…
И хотелось завтра в школу идти (не чаял, когда восемь лет исполнится), и тоскливо становилось на душе при мысли о том, что теперь нам с Пашкой нужно остерегаться не только наших домашних (ему главным образом — матери, мне — старшей сестры Даши, что растила меня), но и учителя Ивана Павловича Журавлева. Мы его еще и в глаза не видели, а уже наслышаны о нем: и строгий он — узнает, что кто-то курит или матюкается, за уши отдерет, а то и вообще из школы исключит; и справедливый он — девчонок в обиду не дает, слабого защитит.
Что касается девчонок, то мы с Пашкой их не трогали, а вот вдвоем на одного нападали — особенно, если мальчишка был с другого конца деревни. Могли пинков ему надавать, могли в крапивный ров столкнуть…
Теперь всему этому наступит конец.
А впрочем…
— Слышь, Паш, — обращаюсь я к другу, — а откуда это известно, что Иван Павлович такой?
— Мне Гаврик говорил. Его Журавлев до войны учил.
— Это ж когда было! — с надеждой на лучшее сказал я. — Теперь он, может, изменился.
— А если не изменился?
— Тогда — хана… Ладно, давай еще по одной выкурим — и бросаем.
ПОМЕТКИ И. П. ЖУРАВЛЕВА
Это верно: преподавать я начал в тридцать девятом году — после окончания Курского педучилища. Кажется, учил и Гаврика Серегина. Было мне тогда… ну-ка прикину… восемнадцать лет. Только не считал я себя строгим, за уши никого не драл, хотя порой и стоило… А вот за девчонок ребят отчитывал — что верно, то верно. А строгим я не успел стать: пришла повестка из военкомата, и попал я вскоре в Тульское оружейно-техническое училище.
Так что пугали моей строгостью вас, моих будущих учеников, зря.
Вечером я наконец отпарил на ногах всю летнюю грязь (цыпки вывел еще раньше, намазав ноги обыкновенным солидолом).
Долго не мог уснуть, представляя, как я завтра, одетый в новую рубаху, в новые штаны, сшитые из покрашенных портянок (брат-ремесленник подарил), обутый в новые матерчатые тапки-ходаки, пройду вдоль деревни с холщовой сумкой наперевес. А в сумке у меня карандаш и целых две тетрадки — в клетку и в косую линейку. И станет мне завидовать встречная малышня, те, кому еще нет восьми, как я завидовал первоклассникам в прошлом (да и в позапрошлом) году.