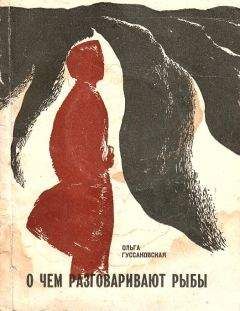Женщина ответила не сразу. И снова было слышно, как шумит море.
А когда заговорила, в голосе ее прозвучала злость:
— Значит, хочешь, чтоб в Натальевнах девка моя не ходила, чтоб люди не корили за прошлое. А оно мое, понимаешь, худое, да мое!
Затрещали сломанные ветки. Кажется, она хотела уйти.
— Наташка! Сдурела?! Вправду, видно, про тебя говорят: балованная ты баба, пустодомка. Может, другой кто есть на примете? Говорила бы сразу, чего ж голову морочить?
— Дурно-о-й! — негромко протянула женщина.
И голос ее опять был новым — ласковым и чуть дрожащим от сдержанного смеха.
Помолчали.
— Так что ж, пойдем, что ли? — спросил он.
— Пойдем… — едва слышно ответила она.
По гравию заскрипели шаги — они уходили к дому. Скоро и последнее окно в поселке погасло. Осталась только белая колымская ночь и море.
Весенняя сельдь шла дружно. Сейнеры в очередь стояли у причалов. Широкие пасти рыбонасосов захлебывались от рыбы.
Свежая сельдь удивительно красива. Только красота эта мгновенна. Взятая из сетной рамы рыбина отливала на боках перламутром, на спинке ее скопилась грозовая синь моря, а плавники пылали. Но уже через несколько минут чудо исчезало. В руках оставалась обычная селедка.
Люди часто равнодушны к тому, чего у них много. Рыба валялась везде. Посеревшие под солнцем тушки целой полосой скопились у линии прибоя: ноги скользили по рыбьим телам. В стороне на солнышке развалились сытые кошки. Глаза у них были ленивые и прозрачные, и только розовые носы нервно дрожали от оглушительного запаха рыбного изобилия.
Сюда, к причалам рыбозавода, притягивалась жизнь всего поселка. Улицы и тропки стекали сюда. На широкой песчаной косе густо росли сизые от избытка соков травы. Их вскармливала рыба. Мне казалось, что и дома выросли на этой же удобренной тысячами рыбьих тел земле.
Очень давно первые домики появились именно здесь — на косе. Они были незаметны, но настойчивы. Следующее поколение домов уже начало наступление на сопки. Сейчас крайняя улица вскарабкалась на гребень прибрежного утеса. И все равно поселок стремился вниз — к рыбозаводу, который издали казался просто скопищем неприглядных бараков, штабелей бочек, серых сетей. Только стройные силуэты сейнеров у причала и на рейде напоминали о море. Все остальное вполне могло быть обычным провинциальным складом. Разные лица бывают у романтики.
…Мы пробирались по скользким мосткам вместе с парторгом завода Ниной Ильиничной Власовой. Мне нравилась эта женщина — худая, быстрая, с насмешливым ртом и крупными рябинами на смуглом лице. Глаза у нее были карие, с умным прищуром — от таких спрятаться трудно.
— Ну что я вам расскажу? Сами смотрите, потом и говорить будем. Люди у нас хорошие, написать о них стоит… Вот это разделочная. Сельдь у нас разных сортов выпускается, есть и деликатесная. От того, как ее разделают, многое зависит.
Наш разговор начался еще наверху, в поселке. И никак не получался. Все, что говорила Нина Ильинична, было правильно… и скучно. Вроде плохой газетной статьи. А ведь она прожила здесь десять лет. Трудно было поверить, что все Эти годы укладывались лишь в колонки цифр. Просто привычка к официальности заштамповала мысли. Мы сами подчас не замечаем, сколькими такими штампами ограничена наша жизнь. Они привычны и потому незаметны.
Я безуспешно пыталась «разговорить» свою спутницу. И мне осталось только одно — смотреть.
В первую минуту женщины у резальных станков показались мне одинаковыми. Все до бровей повязаны выгоревшими от непогоды и солнца платками, все с ног до-головы залеплены рыбьей чешуей.
И все-таки я сразу узнала Наталью. Я запомнила ее узкоплечее легкое тело. Даже, в рабочей одежде она двигалась красиво. Но работала с вызывающей прохладцей. Головы она не поднимала, и я не видела ее лица.
Одна из женщин обернулась к ней.
— Наташка! Твой пришел! Чего не встречаешь?
Другая вдруг полоснула из-под платка жгучими черными глазами:
— Успеет еще! До ночи далеко!
Наталья вздрогнула. Лишь на мгновение подняла голову, но я увидела ее глаза — светлые, словно до краев налитые непролитыми слезами. Никогда я не встречала таких глаз.
Нина Ильинична решительно подошла к первой из женщин:
— Тебя что, Фаина, за язык дергают?
Но той, второй, черноглазой, не сказала ничего. Мне даже показалось, что в движениях ее появилась какая-то неловкость, когда она проходила мимо.
Мы шли дальше. Туда, где работали рыбонасосы. Оттуда остро пахло растревоженным морем и особым дразнящим запахом очень свежей рыбы.
Нина Ильинична как-то искоса глянула на меня, вздохнула, лицо ее сразу перестало быть официально-внимательным.
— Просьба у меня к вам есть: если вам о ком что плохое будут говорить, спросите сначала у меня, как и что.
— Конечно. Только в чем дело?
Мы остановились. Нина Ильинична помолчала с минуту, глядя в море сквозь зыбкий лес сейнерных мачт.
— Обычная жизненная история. Видели ту, с черными глазами? Это Тоня Кожина. Хорошая девушка, выросла здесь. А вон там, вон левее, сейнер стоит, видите? Это Андрея Иваныча Ладнова сейнер. Лучший у нас. Дружили они давно, свадьбу играть хотели после осенней путины. Меня одно только беспокоило — уж больно тихо все у них идет, без ссоры, без обиды, вроде, как и любви тут нет. Привыкли просто люди друг к другу. Многие ведь так — женятся, живут и сами не знают, что любовь их обошла.
А по весне приехала в поселок Наталья Смехова — вы ее тоже видели. Трудный она человек. Девчонкой из-за пустяка в лагерь попала. Пряжу, что ли, какую-то с фабрики вынесла. Из лагеря не одна, с дочкой вернулась. Где только ни носило ее, пока не прибилась к нам. Увидел ее Андрей Иванович — и забыл про Тоню. Я как встретила его с Натальей, поняла — пара они. И вмешиваться не стала, хоть и многие тут несогласны со мной. Говорят, была бы она хоть человеком путным, а то ведь и работает спустя рукава. И это верно, а только отказаться от человека — куда как просто. Я в другое верю: настоящая она и работать будет лучше многих, время ей только нужно. И вера в себя. Порастеряла она ее в трудные годы.
Мы уселись на пустом ящике — в стороне от заводской толчеи. Рядом с нами, как сытый удав, свернулся выключенный рыбонасос. На его кольчатом теле сидели чайки.
— Нина Ильинична, вы меня простите, но раз уж разговор на такую тему… Почему же этот Андрей Иванович просто не женится на Наталье?
Она пожала плечами:
— Просто… Не очень-то просто. В книгах такие вещи легче получаются. Там герои сильные, не только дела — людей не боятся. А в жизни куда сложнее: бури человек не испугается, а перед сплетней отступит. Так и Андрей Иванович. В деле он человек смелый, а в жизни… Далось ему, что про нее до их знакомства всякое говорили. И никак не может через это перешагнуть. Говорила я с ним. Не помогает. Да и не поможет — сам он должен все понять. Ну и она чувствует это. Гордая ведь она, Наталья, милостыня ей не нужна. Так все и тянется.
Мы опять помолчали. По нашим лицам промчалась стремительная тень — на мачту сейнера невдалеке от нас сел орлан. Чайки сейчас же шарахнулись кто куда.
…Возвращалась я с рыбозавода одна. Было жарко. Выцветшее море чуть шевелило гальку у берега. Между камней розовели мелкие раковины. Я подобрала несколько штук. Но они быстро высохли и, как цветы, увяли на солнце. Песок устилали водоросли. На концах их растрепанных коричневых листьев были крошечные пузырьки с воздухом. Они сухо трещали под ногами. Надо мной на краю обрыва повисли дома поселка. Они словно с любопытством смотрели вниз на море и далекие причалы рыбозавода.
На ровном, вылизанном морем пляже играли дети, расчертив песок на кривые квадраты — «классики». Только эта игра была какой-то особенно сложной. Ребята прыгали и через один, и через два «классика», и даже как-то боком.
Выглядели они обычно. Загорелые, шумные. Все — и мальчишки и девочки — в одинаковых сатиновых шароварах. Самая удобная одежда в таких местах.
И только Иринка выделялась из всех — в ее движениях был скрытый полет. Когда она прыгала по «классам», казалось, с места на место перелетает птица. Длинные белые волосы трепал ветер.
Рядом с ней все время вертелись двое мальчишек. Один высоконький — в рост с Иринкой, смуглый, с коричневыми веснушками и вихрами в разные стороны. Его все звали Жоркой. Другой забавный, толстенький карапуз с помидорными щеками в ямочках.
Эта тройка держалась чуть на особицу. Но в общем-то все одинаково спорили из-за очереди в игре, ссорились и мирились.
Вдоль подножья обрыва тянулась полоса обломанного ольховника. Я села на камень за кустами — не хотелось мешать детям, но очень хотелось видеть Иринку. Мне нравилось в ней все: даже ее крупное некрасивое личико.
Она прыгала ловко, не ошибалась. Плоская, обкатанная морем галька падала точно в середину «класса».