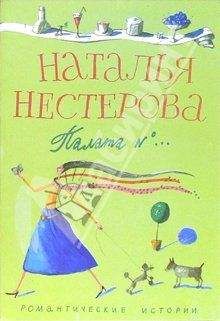— Впрочем, — сказал он, — надо признать, что машинописное бюро под руководством товарищ Липатовой работает уже и в настоящий момент с исключительной четкостью.
Софья Петровна покраснела и долго не решалась поднять глаз. Когда она решилась наконец посмотреть кругом, все люди показались ей удивительно добрыми, красивыми, и с неожиданным интересом она прослушала цифры.
2
Все свободное время Софья Петровна проводила теперь с Наташей Фроленко. А свободного времени становилось у нее все меньше и меньше. Сверхурочная работа, а чаще того — заседания месткома, куда вскоре кооптировали Софью Петровну, отнимали у нее чуть ли не все вечера. Коля все чаще должен был сам разогревать себе обед и в шутку называл Софью Петровну «мама-общественница». Местком поручил ей собирать профсоюзные взносы. Софья Петровна мало задумывалась над тем, для чего, собственно, существует профсоюз, но ей нравилось разлиновывать листы бумаги и отмечать в отдельных графах, кто заплатил уже за нынешний месяц, а кто нет, нравилось наклеивать марки, сдавать безупречные отчеты ревизионной комиссии. Ей нравилось, что можно в любую минуту войти в торжественный кабинет директора и шутливо напомнить ему о его четырехмесячном долге, и он так же шутливо извинится перед терпеливыми товарищами из месткома, вынет бумажник и заплатит. Даже хмурому парторгу можно было безо всякого риска напоминать о долгах.
В конце первого года службы в жизни Софьи Петровны произошло торжественное событие. Она выступила на общем собрании служащих от имени всех беспартийных работников издательства. Произошло это так. В издательстве ждали приезда каких-то ответственных московских товарищей. Завхоз, лихой паренек с пронзительным пробором, похожий на офицерского денщика, целыми днями носился по издательству, на собственной спине таская какие-то рамы, и в самое неподходящее время напустил на машинописное бюро полотеров. Однажды в коридоре к Софье Петровне подошел хмурый парторг.
Партийная организация совместно с месткомом, — сказал он, глядя, по обыкновению, в пол, — наметила тебя… — он поправился, — вас… давать обещание от имени беспартийных активистов.
Работы накануне приезда москвичей стало множество. Бюро писало все какие-то отчеты и планы. Чуть ли не каждый вечер Софья Петровна с Наташей оставались на сверхурочную работу. Машинки глухо стучали в пустой комнате. Кругом, в коридорах и кабинетах, было темно. Софья Петровна любила эти вечера. Окончив работу, перед тем как из светлой комнаты выйти во тьму коридора, они с Наташей подолгу беседовали возле своих машинок. Наташа говорила мало, но прекрасно умела слушать.
— Вы заметили, что у Анны Григорьевны (это была предместкома) всегда грязные ногти? — спрашивала Софья Петровна. — А еще носит камею, завивается. Лучше бы руки почаще мыла… Эрна Семеновна ужасно действует мне на нервы. Она такая наглая… И вы заметили, Наташа, что Анна Григорьевна всегда как-то иронически отзывается о парторге? Не любит она его… Поговорив о предместкома и парторге, Софья Петровна рассказывала Наташе о своем романе с Федором Ивановичем и о том, как Коля упал под корыто, когда ему было полгодика. И какой это был хорошенький мальчик, на улице все оборачивались. Его одевали во все белое: белая пелеринка и белый капор. Наташе как-то не о чем было рассказывать — ни одного романа. «Впрочем, с таким цветом лица…» — думала Софья Петровна. В жизни Наташи были одни неприятности. Отец ее, полковник, умер в семнадцатом году от разрыва сердца. Наташе тогда едва исполнилось пять лет. Дом у них отняли, и они вынуждены были переехать к какой-то парализованной родственнице. Мать ее была избалованная, беспомощная женщина, они жестоко голодали, и Наташа чуть ли не с пятнадцати лет поступила на службу. Теперь Наташа осталась совсем одна: мать в позапрошлом году умерла от туберкулеза, родственница скончалась от старости. Наташа сочувствовала советской власти, но когда она подала заявление в комсомол — ее не приняли. «Мой отец был полковник и домовладелец, и, понимаете, мне не верят, что я могу сочувствовать искренно, — говорила Наташа, щурясь. — С марксистской точки зрения, может быть, это и правильно…»
У нее краснели веки каждый раз, как она рассказывала об этом отказе, и Софья Петровна поспешно переводила разговор на другое.
Наступил торжественный день. Портреты Ленина и Сталина вставили в новые рамы, собственноручно принесенные завхозом, письменный стол директора покрыли красным сукном. Московские гости — двое полных мужчин в заграничных костюмах, в заграничных галстуках и с заграничными вечными перьями в верхних карманах — сидели рядом с директором за столом под портретами и вынимали бумаги из туго набитых заграничных портфелей. Парторг в косовороточке и в пиджачке казался рядом с ними совсем невзрачным. Лихой завхоз и лифтерша Марья Ивановна то и дело вносили на подносах чай, бутерброды и фрукты, предлагали их гостям и директору, а затем уже и всем присутствующим.
От волнения Софья Петровна не в силах была слушать речи. Как завороженная смотрела она, не отрывая глаз, на колеблющуюся воду графина. По слову председателя она подошла к столу, повернулась сначала лицом к директору и гостям, потом спиной к ним, потом стала боком и сложила руки у пояса, как ее учили в детстве, когда она декламировала французские поздравительные стихи.
— От имени беспартийных работников, — сказала она дрожащим голосом, и потом дальше все свое обещание о повышении производительности труда, все что они составили вместе с Наташей и она выучила наизусть.
Вернувшись домой, она долго не ложилась спать, поджидая Колю, чтобы рассказать ему о собрании. Коля сдавал последние школьные зачеты и все вечера проводил у своего любимого товарища Алика Финкельштейна: они занимались вместе. Софья Петровна прибрала кое-что в комнате и вышла в кухню разжигать примус.
— Какая жалость, что вы не служите, — сказала она добродушной жене милиционера, которая мыла посуду. — Столько впечатлений, это так много дает в жизни. Особенно если ваша служба имеет касательство к литературе.
…Коля явился голодный и промокший под первым весенним дождем, и Софья Петровна поставила перед ним тарелку щей. Облокотясь на стол против Коли и глядя, как он ест, она только что собралась рассказать ему про свое выступление, как… «Знаешь, мама? — сказал он, — я теперь комсомолец, меня сегодня утвердили на бюро». Сообщив эту новость, он без передышки перешел к другой, набивая полный рот хлебом: в школе у них случился скандал. — «Сашка Ярцев — этакий старорежимный балбес…» («Коля, я не люблю, когда ты ругаешься», — перебила Софья Петровна.) «Да не в этом дело: Сашка Ярцев обозвал Алика Финкельштейна жидом. Мы сегодня на ячейке постановили устроить показательный товарищеский суд. Знаешь, кого назначили общественным обвинителем? Меня!»
Поужинав, Коля сразу лег спать, и Софья Петровна тоже легла за своей ширмой, и в темноте Коля читал ей наизусть Маяковского. «Правда, мама, гениально?» — и, когда он дочитал, Софья Петровна рассказала ему о собрании. «Ты, мама, молодец», — сказал Коля и сейчас же заснул.
3
Коля окончил школу, наступило душное лето, а Софье Петровне все не давали отпуска. Дали только в конце июля. Ехать она никуда не собиралась, но весь июль жадно мечтала о том, как будет по утрам отсыпаться и как переделает наконец всю домашнюю работу, которую из-за службы никогда не успевала сделать. Она мечтала отдохнуть от барабанной дроби машинок, и подыскать Коле демисезонное пальто, и съездить наконец на кладбище, и позвать маляра, чтобы выкрасить заново дверь. Но вот отпуск наконец наступил, и оказалось, что отдыхать приятно только в первый день. Софья Петровна, по служебной привычке, все равно просыпалась не позже восьми; маляр за полчаса выкрасил дверь: могила Федора Ивановича была в полном порядке; пальто куплено сразу; носки зачинены в два вечера. И потянулись длинные, пустые дни, с тиканьем часов, разговорами в кухне и ожиданием Коли к обеду. Коля теперь целыми днями пропадал в библиотеке: готовился вместе с Аликом в вуз, в машиностроительный институт, и Софья Петровна почти не видала его. Изредка наведывалась усталая Наташа Фроленко (она замещала Софью Петровну в бюро), Софья Петровна с жадностью расспрашивала ее про секретаршу директора, про ссору предместкома с парторгом, про орфографические ошибки Эрны Семеновны. И про обсуждение в кабинете у директора повести того симпатичного писателя. Весь редакционный сектор собрался… «Неужели кому-нибудь может не понравиться? — всплескивала руками Софья Петровна. — Там ведь так красиво описана первая чистая любовь. Совсем как у нас с Федором Ивановичем».
Теперь уже Софья Петровна вполне соглашалась с Колей, когда он толковал ей о необходимости для женщин общественно полезного труда. Да и все, что говорил Коля, все, что писали в газетах, казалось ей теперь вполне естественным, будто так и писали и говорили всегда. Вот только о бывшей квартире своей теперь, когда Коля вырос, Софья Петровна сильно сожалела. Их уплотнили еще во время голода, в самом начале революции. В бывшем кабинете Федора Ивановича поселили семью милиционера Дегтяренко, в столовой — семью бухгалтера, а Софье Петровне с Колей оставили Колину бывшую детскую. Теперь Коля вырос, теперь ему необходима отдельная комната, ведь он уже не ребенок.