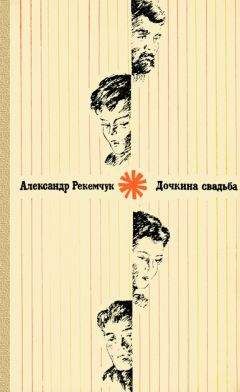— И это верно, — согласился прораб Лютоев. — Все это верно… Наш коллектив знает тебя как лучшего монтажника. Работаешь ты неплохо… Но ведь ты теперь депутат райсовета и слуга народа. А что нам от тебя за прок и на кой нам ляд такой слуга, если ты будешь давать полторы нормы в смену — и все?..
— Но ведь вы сами, Степан Семенович, не пустили меня на сессию райсовета, где обсуждались организационные вопросы… И если я не ошибаюсь, Степан Семенович, вам за это, кажется, крепко влетело, — заметил Николай.
Прораб Лютоев лезвием стальной рулетки почесал затылок.
— Д-да, немножко… Но ведь ты сам, Николай Бабушкин, помнишь, какая сложилась обстановка: конец года был, обязательство, а людей в обрез… И потом, знаешь, что я тебе скажу, Николай? Организационные вопросы — это еще не самые важные вопросы. Есть вопросы важнее!..
Тут прораб Лютоев окончательно затолкал стальную ленту в круглую коробочку, будто вложил клинок в ножны, и посмотрел на Колю Бабушкина задумчиво и ласково.
— Ты садись… — снова сказал он, И это прозвучало, как «ты не обижайся».
Николай сел. Чего тут обижаться.
— Есть вопросы важнее, — сказал прораб Лютоев. — Я имею в виду кирпич. Нам срочно нужен кирпич. Позарез нужен… Я не буду больше разговаривать по рации с инженером Черемныхом, потому что не могу засорять эфир словами, которые у меня кипят на душе… И поехать в Джегор я не могу: наш здоровый коллектив еще нельзя оставлять без присмотра…
Глаза прораба увлажнились от грусти.
— Так вот, в Джегор поедешь ты. И немедленно, то есть завтра утром… Ты явишься к главному инженеру завода и предъявишь свои депутатские полномочия. А не поможет — иди в райисполком, иди в райком партии и даже выше. Но чтоб кирпич был. Кирпич должен быть. Без кирпича ты не возвращайся!..
Прораб стукнул по столу круглой рулеткой — будто наложил печать.
— А если ты вернешься без кирпича, то мы лишим тебя нашего доверия и отзовем из депутатов обратно. И выберем себе другого слугу народа. Более настырного и пробивного товарища… Понял?
— Понял, — ответил Николай Бабушкин. — Чего тут не понимать.
Солнце достигло своего январского апогея. Оно лежало в сугробах, наполовину зарывшись в холодный снег, и нежилось в этом снегу, как в пуху. Его косые — чистого золота — лучи дробились о стволы деревьев, разлетались в мелкие брызги, искристой пылью оседали на снег.
И с неба — безупречно синего, купоросной синевы — тоже сыпались искры. Сыпалась какая-то пыль, почти неприметная глазу, — только посверкивая в лучах солнца, эта пыль становилась заметной, и тогда угадывалось, что весь воздух вокруг насыщен этой прозрачной пылью. Непонятно, откуда берется она — эта пыль. Может быть, она выпадает из облаков? Или ее ветер сдувает со взмыленных кедровых вершин? Но ведь в небе нынче — ни облака, а там, у кедровых вершин, — ни ветерка…
Николай Бабушкин облизнул запекшиеся от стужи губы, перевел дыхание — вроде бы с третьей скорости на вторую. Изо рта у него валил плотный пар. Несмотря на сорокаградусный мороз, ему было жарко.
Он замедлил бег, остановился, прислушался. Чутко прислушался к тому, как стучит в ребра сердце. Сердце стучало исправно, ровно и весело. Сердце стучало, как ему и положено, и гнало по жилам горячую кровь.
«Хорошая машина…» — похвалил Николай свое сердце, и оно, в ответ на похвалу, преисполнилось благодарности.
Сейчас, когда Николай Бабушкин, отмахав на лыжах по тайге тринадцать километров, первый раз остановился, чтобы осмотреться и перевести дух, он не мог не испытать уважения к своему собственному организму: хотелось оценить его как бы со стороны, совершенно беспристрастно. Сейчас, когда он остановился, все тело гладко омывал пот — здоровый, рабочий, быстро высыхающий пот. Было приятно ощущать, что слегка подрагивают колени — не от усталости, а от нетерпения: мол, с какой такой стати нас на полном ходу задержали — отпускай тормоза!.. Было приятно чувствовать, как во всю ширь, во всю мощь развернуты плечи. Как свободна и выпукла при вдохе грудь. Как упруго поджат живот. Было приятно, черт возьми, сознавать, что и все остальное у тебя в полной норме и на должном уровне.
Николай сожмурился от яркого полдневного света и рассмеялся — чтобы выразить это приятное чувство, чтобы вспугнуть окружающую тишину.
Он вспугнул тишину: она суматошно захлопала крыльями, перелетела с одной сосны на другую; она хрустнула сучьями, юркнула в бурелом, оставив на снегу цепочку* свежих следов; она бросилась в чащу, преследуемая грохочущим эхом.
И опять тишина.
У ног Николая Бабушкина, у острых передков его лыж, срывалась крутизна. Она была сплошь утыкана зелеными хохолками засыпанных доверху елок. У самого подножья крутизны протянулась узкая и белая, как стерильный бинт, полоска — там летом река. И опять крутизна — вверх. Над кромкой обрыва стеной вознесся кедрач… Оттуда рукой подать до Джегорского тракта.
Николай прикинул, чего стоит эта крутизна, вычертил глазами кривую, шагнул на край —
— и снова зашагал по сугробам, уже на другом берегу речки, уже по другой крутизне, уже вверх.
Он шел на лыжах по глубокому и рыхлому снегу, не проваливаясь в рыхлую глубину, он поднимался круто вверх, нисколько не опасаясь сползти обратно.
Такие уж у него были лыжи — у Николая Бабушкина. Таких лыж ты не найдешь в спортивном магазине на улице Горького. Ни за какие деньги ты их там не купишь.
Эти лыжи смастерил собственноручно Николай Бабушкин. Его научил мастерить такие лыжи отец — печорский охотник Николай Бабушкин. А отца научил их мастерить отец — печорский охотник Николай Бабушкин. А того отца тоже научил отец — его, между прочим, тоже звали Николай Бабушкин и он тоже, между прочим, лесовал на Печоре. А кто научил того отца — неизвестно. Может быть, он сам научился.
На одну такую лыжу идет целая ель, а на другую — еще одна ель. Ель раскалывают топором, вырубают из нее доску — не выпиливают, боже упаси, пилой, а обязательно вытесывают топором. Потом эту доску полгода сушат в тени — не на солнце, боже упаси, ее сушат, а непременно в тени. Потом, распарив конец доски, его загибают как следует, в самый раз. И опять сушат. А когда высушат — считай, что лыжа наполовину готова.
Теперь остается оклеить эту лыжу камусом — оленьей шкурой, шерстью наружу, ворсом назад. И не каким-нибудь, боже упаси, столярным или конторским клеем приклеивается камус, а обязательно рыбным клеем, который приготовляется из рыбьих костей. Потом опять сушат.
Точно так же, по тем же самым строгим правилам, мастерится вторая лыжа.
И — в добрый путь.
У этих лыж, помимо остальных замечательных качеств, есть удивительное свойство: поднимаясь вверх по крутизне, ты можешь не опасаться, что сползешь обратно. Не сползешь.
А вот почему. Когда ты едешь по склону вниз, снег как бы гладит шерсть, он как бы нежно приглаживает мех, которым оклеены твои лыжи, и лыжи скользят по снегу еще быстрее, еще легче. Но когда ты поднимаешься по крутизне, и тебя тянет назад твоя собственная тяжесть, и лыжи твои норовят соскользнуть обратно — тут вся шерсть, которой оклеены лыжи, встает дыбом, ершится каждой шерстинкой, цепляется за снег, упрямится, пружинит. А этих упрямых шерстинок — бесчисленное множество. Если все они дружно взъерошатся — никакая крутизна им не страшна, никакая тяжесть. Они удержат тебя на месте, не дадут сползти вниз.
На этих надежных и верных лыжах не съедешь вспять, не скатишься в яму.
На них можешь смело идти вперед.
Это уж точно известно: если ты дожидаешься на дороге попутной машины, и ждать тебе совсем невтерпеж, и ноги твои коченеют от стужи — то это уж такой закон, что все машины пойдут в обратную сторону. Одна за другой будут идти машины. Но не в ту сторону, которая тебе нужна, — в обратную.
А ты стоишь на дороге. И ноги твои коченеют. И щеки становятся какими-то посторонними, будто они не твои щеки, а чужие. Будто они казенные. Но хоть они и чужие, хоть и казенные, а все равно жалко. Вот и драишь их рукавицей, трешь с ожесточением, пока они не вспыхнут жарким огнем, пока они снова не станут твоими собственными, личными щеками.
Потом где-то вдали, в глубине тайги, возникает комариное пенье. Вроде бы непутевый комарик, позабыв, что нынче зима, что нынче не комариная пора, вылетел до срока на белый свет и вот — мается на холоду, обижается, скулит комарик…
Но это не комарик. За ближним витком дороги — вон там, где уколол небо голый штык лиственницы, — взыграли басы. Ревут басы. Вся тайга окрест дрожит от этого рева. Уж не вылез ли из берлоги — поразмять косточки — косолапый хозяин тайги?..
Да, это именно он, косолапый хозяин.
Он вырвался из-за поворота, надвинулся, налетел, смял. И промчался мимо — остромордый никелированный медведь на зеленом капоте «ЯАЗа».