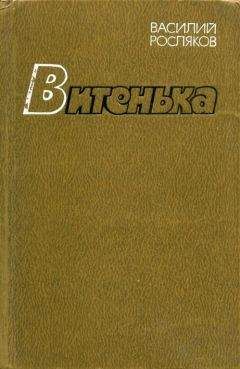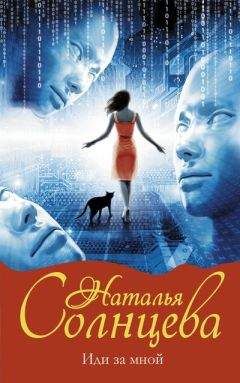— Витек родился! Виктор!
— Сразу уж и Виктор. Может, как у людей, по деду бы назвали, Михаилом? — сказала Евдокия Яковлевна.
— Никаких дедов! Виктор, победитель! Три килограмма шестьсот грамм, богатырь. А сосет — дай бог каждому.
Обедали весело. Лелька сияла, на отца смотрела сияющими глазами, когда тот рассказывал про эти билетики, про нянечку, доставал из кармана записку от матери и читал.
— Беленький? — сияюще спрашивала Лелька.
— Ну, конечно, беленький, — отвечал отец.
— Все они беленькие, потом потемнеют, — сказала Евдокия Яковлевна.
— И не потемнеет, ни за что, бабушка, не потемнеет, — не соглашалась Лелька.
— Беленький, черненький, главное не в этом, главное — мужик придет, а то я с вами, с бабами, совсем пропаду. Мужик придет, Виктор.
Лелька нахмурилась.
— Вы теперь его будете любить, а меня перестанете.
— Чего выдумываешь?
— Я в книжке читала, это правда.
— Неправда в книжке, мы все его будем любить, и ты тоже. Разве ты не будешь любить братика?
— Буду, — шепотом ответила Лелька. — А когда он придет?
— Мама поправится — и придет.
Поменяли тарелки, Евдокия Яковлевна подала котлеты с картошкой, любимой капусты поставила. За окном показалась нетвердая фигурка дяди Коли. Хлопнула входная дверь, дядя Коля завозился в коридорчике, раздевался там и что-то напевал себе под нос, а может, беседовал сам с собой. Вошел на кухню, в руке четвертинка. Облысевшая голова плохо держалась на шее, нос тянулся книзу.
— Подгадал, ко времю пришел, — начал он крякающим, утиным голосом, — в баньку забег, пивка выпил, надо, думаю, мерзавчик захватить, забег в ларек, захватил. Ко времю, значит.
За столиком уплотнились, Борис посадил дядю Колю рядом с собой, Евдокия Яковлевна рюмки поставила, себе тоже. У дяди Коли рука нетвердой была, разливать стал Борис.
— Катерина небось родила уже, — сказал дядя Коля.
— Виктор родился, вчера еще, — важно объявил Борис.
— Она у тебя быстрая. Ишь ты, Виктор, значит. Это ничего, не стесняйся, большим человеком будет. Понял? Точно тебе говорю.
Вошла тетя Поля.
— Ну, чего еще? — спросила обиженно.
Тете Поле подали рюмку. Приняла с угрюмым лицом. Борис на ухо прокричал ей о рождении Виктора. Посмеялась басом, и глаза ласково заулыбались. — Еще чего, — пробасила ласково и выпила вместе со всеми. — Катя ничего? — спросила, бережно ставя пустую рюмку на стол. Борис показал большой палец.
— Ну, слава богу.
— Большой человек будет, — повторил дядя Коля.
— Главное не в этом, — сказал Борис. — Главное, чтоб человеком был. Сосет, правда, дай бог каждому.
Его уже обсуждали, хоть и в глаза никто еще не видел. А он в это время орал в Остроумовской больнице, на большом столе лежал вместе с другими, завернутый в простыню, как в кокон, лежал неподвижно и орал, открывая розовый беззубый рот. Он надрывался от страха и обиды, что его оторвали от матери, от теплой его родины и бросили одинокого на этот страшный стол, где тоже кто-то орет от той же самой обиды.
После обеда Евдокия Яковлевна занялась мытьем посуды, уборкой на кухне, дядя Коля пересел к своему столику, размышляя сам с собой, с тетей Полей обменивался мыслями. Борис стал готовить место для сына, где жить ему. Лелька с великой охотой помогала отцу. С антресолей достали разобранную деревянную кроватку, купленную в декабре еще, поставили между кроватью и диваном. На проволочную сетку положили толстый матрас.
Желтенькая, поблескивающая лаком, пустая, встала она на свое место, и комната теперь заполнилась наконец до отказа. Борис боком протиснулся к окну, где стоял стол, покрытый скатертью, вернулся обратно опять же боком.
— Как, Лелька? По-моему, удобно и ходить можно.
— Очень удобно, папа. — Она смотрела на новенькую кроватку и вся сияла.
— Не рано ли поставили? — сказала Евдокия Яковлевна, войдя в комнату.
— Будем привыкать. Явится, а мы тут уже привыкли, вроде он всегда с нами был.
— А ходить как будем? — Евдокия Яковлевна улыбнулась.
— А вот, — Борис проворно протиснулся боком между диваном и кроваткой. У стола развернулся и взглянул оттуда победителем. Евдокия Яковлевна опять улыбнулась и вспомнила, как не хотели второго ребенка, из-за тесноты, конечно. Верно, не хотели, а потом получилось по ошибке, долго судили, рядили, но избавиться от него Катя отказалась, и потихоньку все привыкли. Теперь, когда он уже был, Борис даже вспоминать не хотел о тех разговорах. По улыбкам Евдокии Яковлевны — как, мол, хотите, мое дело маленькое — он понимал, что она-то все помнит, и от этого как-то неприятно было, хотелось, чтобы и она все забыла и не улыбалась так откровенно.
— Вы, мать, не горюйте, проживем, крестины-октябрины справим не хуже людей.
— Я разве что, я не горюю, — и опять улыбнулась. — Сейчас с Лелей постелем ему.
Она-то знала, на чьих руках будет внук, кому от него больше достанется, но и с этим давно примирилась.
5
Неделя шла ужасно медленно для всех: для Евдокии Яковлевны — скорее бы уже, и для Лельки, которая из школы, не задерживаясь, бежала бегом — а вдруг уже дома? — и тем более для Бориса. С работы он спешил в больницу и там спрашивал одно и то же: скоро ли? А потом слонялся по-за стенками корпуса. Наконец показалась она в окне третьего этажа. В некрасивом больничном халате смотрела оттуда, как из другого мира. Глаза сильно изменились, и сама изменилась. Что-то сказать хотела, шевелила губами, на пальцах показывала. Три дня еще, показывала она на пальцах. В следующий раз — уже два было, и наконец, — один. Значит, завтра.
Сколько за эти дни выслушал он поздравлений от заводских дружков-приятелей, от начальников своих, вплоть почти до директора, которому, правда, не успел еще попасться на глаза. А председатель завкома при встрече изобразил на лице такую мучительную гримасу, будто у него зубы болели.
— Поздравляю, Борис, — сказал он мучительно, — на квартиру давишь? — И бессильно развел руками.
— Ничего не давлю, Василь Васильевич, родился человек, без всякого умысла, честное партийное слово. С кем не бывает? — Улыбался и жалел Борис председателя завкома.
— Ну, гляди, гляди.
А сколько выпито поздравительного пива с дружками-приятелями, на бегу, после смены, где-нибудь на трамвайной остановке, прямо на улице, у пивного ларечка. Сбившись на деревянном порожке из двух досок, исшарканных каблуками, разламывали круг колбасы, чокались толстыми кружками, цедили холодное пиво, сдувая пену. Пожелав Борису и его новорожденному всех благ, переходили на обычный треп.
Пришел этот день. С утра было солнечно, тихо. На улицах таяло. Самосвалы с последним снегом подходили к Яузе и вываливали белые глыбы на берег. Снежные комья скатывались в черную воду, оттуда с шипением взлетали радужные от солнца пузырьки. Яуза прибывала, гнала мусор, доски, ломаные ящики, смытые где-то с затопленных берегов.
Борис торжественно нес в новеньком одеяле, перевязанном голубой лентой, новорожденного сына Виктора. Легкая, почти невесомая, со стеснительной улыбкой на опавшем лице, шла рядом Катерина, придерживаясь за мужнин локоть. Ни самого Виктора, ни даже лица его не было видно, но он был там, в этом праздничном свертке. Всю дорогу Борис чувствовал это и как бы видел сморщенное, жалкое, как у старичка или как у гриба сморчка, Витино личико. Победоносное настроение — мужик, Виктор, победитель и так далее — сменилось щемящей жалостью к этому слабенькому и неприглядному существу, которое нес он все же торжественно и гордо.
На мосту путь им преградила толпа. Заполнив всю левую часть, даже трамвайные рельсы, она так густо сбилась к перилам, что нельзя было ни понять, ни увидеть через головы, чем, каким зрелищем так увлечены были люди. Остановился трамвай, шедший с Преображенской стороны. Трезвонил вагоновожатый, светило по-весеннему солнце, плавясь в стеклах вагонов и в первых мартовских лужицах, молчаливо теснился народ. Катерина и Борис со своей ношей осторожно обошли толпу правой стороной, потом за остановившимся трамваем пересекли пути и по мокрой тропинке спустились к своему пустырю. Толпа, еще по-зимнему одетая, в шапках и платках, и пальто с теплыми воротниками, навалясь на перила, смотрела в воду, текуче отражалась в ней, неотчетливо, маслянисто, пестря цветными пятнами шарфиков, пуховых шапочек, варежек, выглядывающих воротничков. В десятке метров от перил, куда были устремлены глаза толпы, то высовывалась из воды, то вновь погружалась в воду обугленная вершинка топляка. Комель бревна, видно, тяжелым был и за что-то зацепился на дне непроницаемо черной реки, обгорелая голова то утапливалась течением, то вновь показывалась над водой. Утопнет, вынырнет, утопнет, вынырнет.
— Странный народ у нас, — сказал Борис, глядя на обугленную ныряющую голову. — Зарежут кого — глядят, утопнет кто — глядят, бревно — тоже глядят. И весь день будут глядеть.