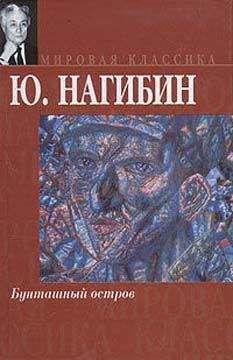И тут я замечаю, что в горнице светло как днем: огромная полная луна в избу ломится. Сроду я так близко луны не видал, красиво и чего-то жутко. Лежу и думаю: случайно или не случайно лампада грохнулась, и если не случайно, то какая кому корысть в моей смерти? Что с меня возьмешь: штаны, да рубашку, да старый дождевик. А с другой стороны, нешто постояльца под образа кладут? Это только покойников, живых — ни в коем разе. Значит, с умыслом сделано. И как я сразу не сообразил: может, все мое беспокойство с того и шло, что не лежалось мне в красном углу под тяжелым светильником. Надо, думаю, старуху попытать. Только она отопрется, скажет, что я сам во сне лампаду сорвал. И все-таки обязан я ее спросить, а то, не ровён час, она приладит лампаду на старое место, глядишь, в другой раз стукнет без промаха. Нет, надо ее разбудить, спросонок она скорее расколется. Но будить мне ее не пришлось: слышу — завозилась в своем углу, встала. Небось на двор захотела. Ладно, подожду, когда вернется. Но входная дверь молчит, и все в избе молчит, как умерло, и ходики не тикают, и сверчок затаился. А старуха как поднялась с лежака, так дальше не пошла. В деревне ночной посуды нет в заводе, окаренок — я бы услышал. Чего-то там задумала. Осторожно спустил ноги с кровати, на носках пересек горницу и за печь стал. Маленько дух перевел, выглянул и, поверьте, чуть сознания не лишился: старуха в длинной белой рубахе с закрытыми глазами по лунному лучу плыла. Вернее сказать, не совсем плыла, а чуть-чуть босыми ногами перебирала, сучила и легкую лунную пыль подымала — клубилось у нее под ступнями. А половиц не касалась. Меня аж выбросило из-за печи. «Ты чего?» — не сказал — выдохнул. И слышу, как ее ноги легонько об пол стукнулись. Луч сразу из-под них выскользнул и по подолу рубахи растекся. Она не ответила, глаз не открыла, медленно, плавно повернулась, прошла к лежаку и села. Я — за ней: «Ты чего, бабка?» — «Ничего. А ты чего?» И голос у нее обычный, негромкий, ворчливо-сиплый, дневной, только какой-то далекий, и глаза по-прежнему пленками век затянуты. «Ты чего бродишь?» — «А ты чего?» — эхом издали отзывается. «Меня чуть до смерти лампада не убила!» — «Будя городить-то!» — сказала как-то равнодушно, повалилась на постель и сразу засопела. И почему-то я решил, что лампада на своем месте висит. Бросился туда — ничего подобного, на подушке, где и была… Ну что вы на это скажете?
— А что тут можно сказать? Лампада упала, потому что упала, а старуха просто лунатичка. Не такое уж редкое явление.
— И я тем же себя успокаивал, чтобы ночь дотерпеть. Но в деревне не остался. И конец учебного года в школе на столах ночевал. А после за Москву уцепился. Вот какие бывают происшествия. Что там Сведенборг! — Он поднялся, тщательно застегнул курточку. — Пора. Уже поздно, а мне еще до автобуса топать. — В дверях обернулся и спросил серьезным, глубоким голосом: — У вас тут не балуют?
— Господь с вами! Кому баловать-то? Три четверти дач заколочено, в поселке несколько еле живых классиков да пяток старух домработниц — дачи сторожат.
— Старух? — повторил он многозначительно.
Я не понял. Резким движением он распахнул дверь. Сад был залит пронзительным, серебристо-зеленоватым, хрустальным светом. И совсем близко над верхушками голых берез и островершками елей стояла в мглистом мерцании ореола большая чистая луна — совершенный круг.
Я и забыл, что сейчас полнолуние. Над ней и под ней в ее свете слоисто сдвигались облака, под облаками проскальзывали легкие, как дым, тучки. Но ни плотные облака, ни этот дымок не посягали на широкую круглую промоину, выгаданную луной в загроможденном небе, чтобы оттуда беспрепятственно изливать на землю свой колдовской свет. Только теперь дошло до меня, что стояло за тревожным вопросом: не балуют? Не лихого человека, не лесного разбойника, не татя боялся этот крепкий юноша, вполне способный постоять за себя в державе земного притяжения.
— Не слышно вроде. — Ответить более твердо и определенно, когда сад, и дом, и вся окрестность, и собственная душа залиты этим завораживающим светом, я не мог.
— Вот то-то и оно, — понурил он лобастую голову.
— Давайте я вас провожу.
— Мне, право, неловко… — пробормотал он, явно обрадованный предложением.
— Я все-таки местный, — добавил я, словно это что-то значило в магическом круге лунных сил.
— Хотя бы до кладбища, — сказал он и первый ступил с крыльца в лунный поток.
Меня поразила его наблюдательность. Наша окрестность, еще недавно малонаселенная, не имела кладбища, старого деревенского погоста, средоточия тайн, ужасов и поэзии, с покосившимися крестами, рухнувшими и расколовшимися надгробиями, повитыми травами, в которых скрывается невероятно крупная и сладкая земляника, — и как угадал он с дороги малый островок в глубине пустого пространства, где, проредив бузинную и ракитовую заросль, жители недавно возникшего поселка строителей похоронили своих первых умерших. Там не было ни ограды, ни крестов — всего лишь несколько фанерных цокольков со звездочкой на могилах ветеранов войны да ничем не помеченный бугор над младенцем, так и не открывшим миру взора. Заметить этот островок в незнакомой местности и угадать его назначение могла лишь очень пристальная к опасности душа. И мы пошли, и лунный свет стелился нам под ноги и словно отделял от земли, и даже какая-то невесомость открылась в теле, и странно заструился воздух мимо висков, и пропал тонкий хруст ледка под ногами. Бесшумно плыли мы по лунной реке…