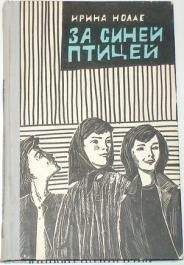Бригада заключенных женщин, стоявшая в ожидании у ворот лагподразделения, не обращала ни малейшего внимания на пожилого конвоира.
— Прими вправо! — кричал конвоир. — Не выходить из рядов! Бригадир, ты чего смотришь? Говорю — вправо прими!
Никто его не слушал. Впрочем, стрелок напрасно волновался. Женщины стояли ровно, но все головы были повернуты в сторону вагона, откуда уже выскакивали девчонки.
— Эй, пацаночки! — крикнула смуглая женщина, стоявшая впереди других. — Каким это вас ветром к нам занесло? Может, землячки?
— Московские мы, тетенька! — отозвалась одна из девчонок, отряхивая руками подол коротенькой синей юбки. — А как у вас тут житуха? Печенье к чаю дадут?
— Дадут! — засмеялись женщины. — Догонят и еще раз дадут!
— Прекратить разговорчики! — крикнул конвоир. — Сколь разов толковать можно? Эй, вахта, принимай бригаду! Слышь ты, как тебя там, черноглазая! Отворяй калитку, нечего бригаду держать!
Черноглазая вахтерша рассмеялась:
— Чего расшумелся, Петрович? Аль командира взвода учуял? Не кричи, сейчас примем. Подождут невесты твои!
Кто-то из «невест» подзадорил конвоира:
— Правильно, стрелочек, никакого у нас на вахте порядка нет. Люди с работы пришли, а они вон что — в зону не пускают. Ты им, милок, растолкуй, что и к чему.
Смуглая женщина добавила еще что-то к этим словам, и все, кто стоял рядом с ней, громко расхохотались. Все в бригаде прекрасно знали, что стрелок кричит только для порядка. Он водил их с весны, все к нему привыкли и по-своему жалели этого пожилого человека, вынужденного на старости лет мотаться целый день да еще отвечать за своих подконвойных.
Каждое утро, когда бригада выходила за ворота зоны, повторялось одно и то же. Пересчитав людей, стрелок произносил обычное: «Бригада, внимание…». Женщины нетерпеливо выслушивали традиционные слова, и кто-нибудь обязательно кричал: «Знаем, выучили! Кончай молитву!». И когда наконец стрелок заканчивал: «А ну, давай следовай!» — все дружно подхватывали: «Следова-а-ай!» — и хохотали.
«Бессовестные, — ворчал стрелок уже на ходу, — хоть бы начальства постыдились. Вот уйду от вас, тогда вспомните…».
Женщины отвечали: «Ох и здорово было бы! Дали бы нам молоденького…».
Машинисту Илье Тимофеевичу много раз приходилось наблюдать вывод бригад на работу и прием их в зону после окончания рабочего дня, и он хорошо знал, что далеко не на всех лагпунктах эта церемония происходит так, как на подразделении капитана Белоненко. Но Анна Ивановна, недавно работавшая на этой ветке, осуждающе заметила:
— Скажи пожалуйста — разве это порядок? Смеются, ровно с гулянки пришли. Какая же это тюрьма, если у них одни хаханьки на уме? И капитан этот твой — хоть бы прикрикнул для порядка. А то вон стоит, словно дело не его.
Машинист покосился на нее:
— Ишь ты… смеются… Так что ж им, весь срок плакать, по-твоему? Не бойсь, они свое отплакали… Видывал я всякое. Мне и в зоне бывать приходилось. Погляди-ко: забор и вышки по углам. И вся тут тебе радость. Год так, два, три… Словом, по делам и почет. А есть такие, что сроков понахватают — дай бог… Ну а все-таки живые люди. А живого человека, куда его ни сунь, ничего живого лишить нельзя.
Он помолчал, а потом добавил:
— Пусть себе посмеются. Значит, дышат они. Ну, однако, нам пора — разгрузили.
Он легко взобрался по крутой железной лесенке на паровоз, за ним понуро поплелась Анна Ивановна, и через секунду заливчатый свисток «главной» дал отправление. Состав «местного значения» из двух товарных вагонов, одного пульмана и двух платформ неторопливо двинулся дальше.
Наконец бригаду впустили в зону, где у ворот уже толпились женщины, вышедшие по традиции встречать новый этап.
К смуглой женщине, бригадиру сельхозбригады, подошла девушка в стареньких, сильно поношенных спортивных брюках и вязаной, тоже старенькой, но аккуратно заштопанной шелковой тенниске. Девушка до удивления была похожа на знаменитую киноактрису Франческу Гааль из фильма «Петер». Те же веселые веснушки, тот же задорно вздернутый нос и такие же коротко подстриженные светлые волосы.
— Откуда пацанки, Даша? — спросила девушка.
— Здорово, Соловей, — дружески кивнула ей бригадир. — Говорят, москвички. Представляешь — малолетки! С чего бы это их к нам?
Соловей повела плечами:
— Начальству с горы виднее. Думаю, однако, ненадолго их сюда…
— Привезли работничков, — рассмеялась Даша. — Бригада ух, работает до двух. Достанется кому-то счастьице…
— Тебе не достанется, — успокоила ее Соловей. — Их за зону не пустят. Они к нам временно, пока не отремонтируют шестой лагпункт. Там специальную колонию организуют.
— А Маше Добрыниной уже все доложили: кого привезли, зачем привезли и куда отправят, — прозвучал за спиной Соловья насмешливый голос. — Может, тебе сам капитан докладывал?
Маша Добрынина, не оборачиваясь, ответила:
— А еще мне капитан докладывал, что твоего Мишку-парикмахера скоро на штрафной отправят: не крути любовь в лагере. Ясно тебе, Нюрочка?
Нюрочка — красивая, чернобровая, но с недобрым взглядом темных глаз — вспыхнула и пробормотала:
— Хоть и отправят, а тебе не достанется.
Даша Куликова рассмеялась:
— Такое счастье за кусок сала кому хочешь достанется.
Маша Добрынина с досадой остановила подругу:
— Да брось ты с ней связываться! Пойдем, Дашок, поближе, — и, отстранив стоявших впереди женщин, вышла вперед, потянув за собой Куликову.
За воротами звенели оживленные девчоночьи голоса, вспыхивал смешок и отдельные выкрики:
— Давай, гражданин комендант, принимай гостей!
— Жрать охота!
— Душа о работе болит, а вы здесь резину тянете!
Низкий голос коменданта без усилия покрыл весь этот шум и гам:
— Предупреждаю: пока не построитесь, как полагается — в зону не пущу!
— А нам, дядечка, коли так, то и здесь неплохо! — отозвался кто-то из новеньких. — Мы сейчас грибы собирать пойдем.
— На ужин! — подхватила другая — А то ведь на вашей баланде и норму не дашь!
— Малолеточки… — процедила сквозь поджатые губы пожилая женщина с благообразным лицом и в белоснежном платочке, подвязанном под подбородком. — Энтих малолеточек запрягать да пашню пахать. Ишь ржут. Весело им, ровно не в заключение, а в санаторию какую прибыли.
— А тебе, тетя Васена, жалко, что им весело? — заметила Даша Куликова. — У тебя одной грехов больше, чем у них всех, а ты ведь тоже слез не льешь? Ты небось только и плакала, когда твою «дачку» реквизнули?
В ответ на слова Даши Куликовой тетя Васена только усмехнулась.
— Не к месту вспомнила, — спокойно ответила она.
— Куда же их размещать будут? — спросила надзирательницу женщина неопределенного возраста с цветным бело-розовым шарфом на шее. На ее бело-розовом, в тон шарфику, слегка припухшем лице, обрамленном светлыми кудряшками, странно и чуждо выделялись старые, цепкие глаза — много видевшие и много познавшие.
Эти глаза казались взятыми с другого лица — такого же старого, холодного и жестокого. Но обладательница их, словно сама хорошо понимая несоответствие младенческого цвета кожи, наивных и легких кудряшек и пухлых, маленьких пальчиков с этим тяжелым и холодным взглядом, умело прятала свои глаза, почти никогда не глядя прямо в лицо собеседника. — Гражданка дежурная, — торопливо продолжала она, — прошу учесть: у меня в бараке только девять мест, да и то на верхних нарах. Только девять, а их, учтите, кажется, больше сотни…
Маша Добрынина насмешливо покосилась на старосту 3-го барака:
— Ты, Гусиха, зря волнуешься — не доверит тебе капитан пацанок. Ты из них за две недели первоклассных аферисток сделаешь.
Светло-голубые глаза Гусевой на миг остановились, перестали бегать. Она задержала взгляд на Маше:
— А что бы ты из них сделала, Соловей? Карманщиц?
— Опять сцепились? — степенно произнесла тетя Васена. — Чего вы только поделить не можете?
В это время тяжелые створки ворот медленно распахнулись. Теперь только какие-то семь шагов отделяли тех, кто находился по ту сторону высокой ограды, от черты, которую они должны были переступить через несколько минут. Там, за оградой, неподвижно дремали леса, тронутые золотом осени; под низкими лучами заходящего солнца поблескивали рельсы, убегающие за поворот полотна; слышались протяжное мычание коровы и детский голос, ласково уговаривающий: «Манюся, Манюся, иди домой». Там была воля.
А здесь, в зоне, стояли низкие, побеленные известью бараки, вдоль стен которых тянулись узкие полоски земли, засаженной уже увядающими цветами. Кое-где были разбиты клумбы и виднелась зеленая трава, но нигде не росло ни одного деревца, ни одного куста — все было плоским, обнаженным, подогнанным под одну линейку: и чистые бараки, и чистые дорожки, и добела выскобленные деревянные скамьи, аккуратно расставленные у бараков на равном расстоянии. И все это было замкнуто четырьмя высокими стенами плотно стоящих рядом крепких круглых бревен, сверху которых тянулась колючая проволока. И с ближней к воротам вышки равнодушно смотрел на стоящих по ту сторону невидимой черты пожилой стрелок с автоматом, повешенным на груди. И на какие-то мгновения в рядах новоприбывших наступило молчание. Ни возгласа, ни смеха, ни веселых, бесшабашных выкриков.