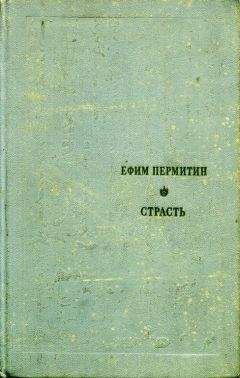Как-то ранней весной отец взял ее и меня на пашню, где он собирался засеять уже вспаханную десятину пшеницей. На меже он распряг лошадь и пустил на попас. Из блеклой прошлогодней травы, из-под самых ног отца, взлетел жаворонок и, трепеща крылышками, точно по незримым ступеням поднялся в голубую высь. Отец, кажется, и не заметил жаворонка. Но мать!..
— Смотри! Смотри, Алеша! Чуть покрупней воробья, а большекрылый. Потому и трепетун неустанный.
После ее слов я тоже отметил, что действительно у жаворонка крылья, в сравнении с туловищем, и длинны, и широки. И тогда же подивился ее зоркости.
Много времени прошло с тех пор, но и сейчас я вижу поднятое ее лицо, ее глаза, всю ее восторженно-напряженную фигуру, когда она слушала переливчато-хрустальное урчание, несшееся из поднебесья, которому, казалось, не будет конца.
Солнце заливало голые, дымившиеся парком поля, а мать все стояла и слушала. Возможно, она уже и не видела штопором ввинтившегося в беспредельную высь певца, а только слышала радостный его голосок, чувствовала ту же радость в своем сердце. И впитывала, впитывала в себя все сразу — вместе с жаворонком, ликующим в поднебесье, с ожившей, парующей под весенним солнцем землей.
А сколько нужды и горя выпало на долю матери, потерявшей семерых взрослых детей!
И все же глаза ее оставались незамутненными до глубокой старости, свидетельствующими о душевной ясности, лицо свежим, свободным от морщин. Способность радоваться, чутко улавливать красоту родной земли дарована далеко не всем людям: «Дурак и радость обратит в горе, разумный — и в горе утешится», — говорила она.
Лицо матери, как подсолнечник к солнцу, всегда было обращено к радости, к деянию добра. Все хотелось ей накормить голодного и не только постучавшегося нищего, но и случайно зашедшего малознакомого человека, угостить, утешить в беде. Чувство это особенно обострялось у ней в дни слякотного осеннего ненастья и зимней непогоды:
— Не дай бог кто сейчас в пути-дороге! Спаси их мать пресвятая богородица! У нас и печь горячая, и крыша над головой, а там!..
А по субботам, когда она еженедельно топила баню, — обогреть, обмыть: «Алешенька, добеги до Жаздричихи, до Горошихи, — пускай побанятся. И пару и воды горячей с залишком: не пропадать же добру…»
Я был убежден, что мать обладала особым талантом доброты и обостренным ощущением природы, которые она все время бессознательно пыталась привить нам, детям. И сам я также жадно начинал смотреть на дерущихся воробьев, слушать писк синиц, с волнением ждать первой капели с крыш. Каждый «воробьиный шажок» весны торжествовался, как победа. Слова матери глубоко западали в память, трогали какие-то незримые струны детской души, рождали в ней томительные и сладкие чувства, оберегали нас от тысячи тысяч пагубных соблазнов, бились в наших сердцах неиссякаемым подспудным родником.
— Немало людей, дети, живут злобой, корыстью, завистью. Не радуются ни весне, ни птичьему звону и оттого глаза у них мутные, тусклые. Слепцы они, а с слепого какой же спрос?
А как сделать, чтоб всем жить было радостно, она не знала. И видела источник радости в окружающей ее природе. Любовь к природе, радостное любование ею было заложено в ней от рождения, как в певчей птице, радующейся весне, солнцу. Мать не представляла иной силы, способной так чудодейственно окрылять человеческую душу, и поражалась, как другие не понимают этого. И потому прививала нам, детям, эту целительно-животворную любовь.
Она, безусловно, никогда не задумывалась и не могла задумываться над вопросами: «Что такое охота? атавистический ли этот предрассудок или феодальный пережиток». Ни о том, что охота и рыбалка — некая благодатная сила, таящая в себе очарование молодости, душевной свежести, сила, какими-то корнями «уходящая в область искусства и науки». Но стоило кому-нибудь из нас заболеть расстройством ли желудка или даже захрипеть, закашлять — она тотчас же прогоняла нас на рыбалку или на охоту:
— Пробегаешься, в азарте — семь раз пропотеешь, птичьего свиста наслушаешься, вольным воздухом надышишься, ухи из свежей рыбки, польско́й каши в охоту поешь — и всю твою хворь как рукой сымет. Бабка ваша и сама рыбалкой лечилась, и нас тому же учила…
Система воспитания. Ее, конечно, не было в нашей простой — «мужицкой» — многодетной семье. Но то, что ее не было, может быть, и была самая лучшая система. Шести-семилетние ребята полностью поручались природе и самим себе: нас некому было «водить за ручку». За нами не следили ни зимой, ни летом. И ни один из нас не замерз, не утонул, даже не простудился, а сразу же начинал плавать, как брошенный в воду утенок.
С детства нам были ведомы строгие расчеты родителей, как на заработанный за столярным верстаком целковый прокормить столько ртов, а на скопленную к пасхе четвертную — одеть всех в новые рубахи и платьица. И непременно всем детям, чтоб никому не обидно было.
— Ну вот, отец, слава богу, и опять не хуже добрых людей обтянули пузыньки ребятенкам, — отирая взволнованные, полные радостного сияния глаза, ликовала мать.
Отец, по обыкновению, молчал, но по улыбке, скользнувшей у него где-то под усами, и мать и мы, дети, отлично чувствовали, что он тоже и горд и счастлив.
— Лиха беда перезимовать было. Теперь что, теперь у каждого воробья — пиво: скоро огурец, картошка-моркошка пойдут. Да и вон их сколько у тебя помощников: где рыбешку, утчонку, ягоденок притащут…
Счастливая мать еще долго не могла успокоиться.
С весны мы привыкли жить самостоятельно на берегу реки, в поле, в горах, с утра до вечера кормясь сладковатым кандыком, терпким диким луком, ягодами, наловленной рыбой, убитой птицей. Но большую часть добычи мы непременно приносили домой.
Если верить тому, что бедность — лучший учитель, то в учителях у нас недостатка не было.
В пятнадцать лет, стремясь как можно быстрее встать на собственные ноги и помогать родителям, по окончании Усть-Каменогорского городского училища, я решил самостоятельно — экстерном — в один год подготовиться к экзамену за учительскую семинарию. В пылу усердия я дошел до полного изнеможения. Мать пришла к отцу:
— Лежит, что мертвый, не ест, не спит, так, гляди, и ноги протянуть может. Надо его во что бы то ни стало оторвать от книжек и выпроводить на охоту, на рыбалку. Одним словом, из городу. И вот — отруби мне голову по самые плечи — вернется здоровым-здоровешеньким.
Отец улыбнулся: он знал, что все болезни своих детей, начиная от расстройства желудка и головной боли до удушающего кашля, она лечила единственным средством, в силу которого верила свято: «Уж на что собака, а как прихватит ее какая хворь, из конуры — сразу же в поле — ищет пользительную траву, через три-четыре дня здоровей здоровой явится…»
Как и бабка моя — сказочница Надежда Петровна, как мать бабкиной матери — она лечилась и лечила своих детей только травами и природой: «Не раз на самой себе испытала: совсем раскисну, расхвораюсь в городу, на пашню выеду — обо всем позабуду, разомкнусь, разломаюсь, пригорелой польско́й кашки поем, пользительной травки пожую — как рукой сымет… Если бы я была мужик, я бы, кажется, ни одной ночи в доме не ночевала: на пашне и сон другой, словно в раю…»
И это была правда: поле, работа на пашне встряхивали, взбадривали организм матери: уже при сборах на пашню, на покос, в горы по ягоды лицо ее сияло, когда она только еще усаживалась на телегу: «Умирать начну, вывезите в поле — оживу», — смеялась она.
— Неправду, отец, хоть сердись, хоть не сердись, а я больше не могу терпеть. До основания обстрогался парень: не спит, не ест, а в горах сейчас весна разливанная. И кандык, и дикий лук — от семи недуг, и репка, и кислица, и ревень… Да что там — одного вольного воздуха напьется — уснет, как убитый.
Отец знал, что мать не отступит от принятого решения:
— Испыток не убыток, попробуй уговори его, — сказал он.
— Да его и уговаривать не придется. А что до экзаменов месяц остается — так если ему сейчас денька три-четыре не отдохнуть, он и пера в руке не удержит…
На том и порешили.
К вечеру я уже был в горах, где вовсю колдовала алтайская весна.
* * *
Природа, весна — неиссякаемый источник вдохновения. Нельзя хотя бы приблизительно подсчитать количество страниц, строк в мировой литературе, посвященных им.
Времена года. Каких только эпитетов, красок не придумано певцами, чтоб передать чувства, взволновавшие их сердца в описаниях благословенного щедрого лета, дождливой печальной осени, морозной снежной зимы!..
Но весна — самое отдаленное ее дыхание, первая, еле различимая дымка над оживающими лесами — затмевает сочный темно-зеленый, почти лаковый блеск лета, золотые и багряные краски осени, пышную, песцово-снежную просинь зимы.