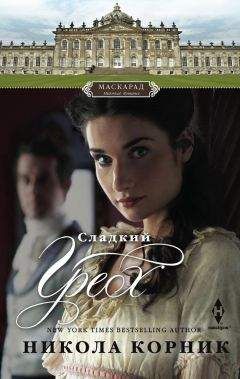Пока приходилось служить. Казенная дисциплина была скучна, брала очень много времени и усилий, но не казалась страшной: домашняя была страшнее; когда отец преподавал латынь, надо было стоять навытяжку.
Мать умерла, лежала в деревне под памятником, на котором была вырезана тщательно выбранная братьями строка из Карамзина, тогда еще не избитая. «Покойся милый прах до радостного утра». Молодой Достоевский был религиозен по Карамзину.
Христос в «Вертере» – товарищ молодого человека по страданиям. Для юноши так же горька чаша жизни, и он так же взывает: «Боже, боже! Зачем ты меня оставил».
Религиозная терминология и образы в каждую эпоху имеют свое содержание; с библейскими именами в поэмах Маяковского незачем спорить, он сам их опровергает.
Но соседство старых образов иногда способствует ошибкам, и человек старается убежать в прошлое, обманывая себя.
В начале августа 1839 года Федор Михайлович узнал страшную весть: отца его убили.
Иногда связывают с этой вестью случай первого появления эпилепсии у Достоевского.
Вопрос о начале падучей болезни у Федора Михайловича довольно темен. Воспитанника с явной эпилепсией в военную школу, вероятно, не приняли бы. Мы можем полагать, что во время обучения в Инженерном училище припадков у Достоевского не было. Но из писем Достоевского к доктору Яновскому мы знаем, что Достоевский, во всяком случае, болел и до ареста.
В статье О. Миллера говорится: «Есть еще одно совершенно особое свидетельство о болезни Ф. М., относящее ее к самой ранней его юности и связывающее ее с трагическим случаем в их семейной жизни».
О. Миллер не решается передать сущность сообщения, хотя и говорит, что оно идет от самых близких лиц.
Л. Гроссман дополняет показания О. Миллера так: «По свидетельству Л. Ф. Достоевской, «семейное предание гласит, что с Д-им при известии о смерти отца сделался первый припадок эпилепсии».
Младший брат Федора Михайловича, Андрей, рассказывает, что их отец был человеком очень тяжелым и помещиком своенравным и взыскательным. Кроме того, он был буен во хмелю.
«Выведенный из себя какими-то неуспешными действиями крестьян, а может быть, только казавшимися ему таковыми, отец вспылил и начал очень кричать на крестьян. Один из них, более дерзкий, ответил на этот крик сильною грубостью и вслед за тем, убоявшись последствий этой грубости, крикнул: «ребята, карачун ему!» – и с этими возгласами все крестьяне, в числе 15 человек, накинулись на отца и в одно мгновение, конечно, покончили с ним...»
Наехали чиновники из Каширы. Дело было, с одной стороны, для начальства неприятным, но, с другой стороны, оно оказывалось для чиновника так называемого «временного отделения» не безвыгодным.
Начался торг. «...знаю только, что временное отделение было удовлетворено, труп отца был анатомирован, причем найдено, что смерть произошла от апоплексического удара, и тело было предано земле в церковном погосте села Моногарова.
Прошло, я думаю, не менее недели после смерти и похорон отца, когда в деревню Даровую приехала бабушка Ольга Яковлевна. Бабушка, конечно, была на могиле отца в селе Моногарове, а из церкви заезжала к Хотяинцевым. Оба Хотяинцевы, т. е. муж и жена, не скрывали от бабушки истинной причины смерти папеньки, но не советовали возбуждать об этом дела, как ей, так и кому-либо другому из ближайших родственников. Причины к этому выставляли следующие: отца детям не воротишь; что ежели бы, наконец, и допустить, что дело об убиении отца и раскрылось бы со всею подробностью, то следствием этого было бы окончательное разорение оставшихся наследников, так как все почти мужское население деревни Черемошни было бы сослано на каторгу.
Вот соображения, ежели только можно было допускать соображения по этому предмету, по которым убиение отца осталось нераскрытым и виновные в нем не потерпели заслуженной кары. Вероятно, старшие братья узнали истинную причину смерти отца еще ранее меня, но и они молчали».
Федор Михайлович промолчал, как многие другие. Считалось, что в год погибает от крестьян и дворовых человек приблизительно по 20 помещиков. Цифры колебались, но не так сильно: 20, 16, 18.
На самом деле гораздо большее количество помещиков умирало будто бы от апоплексии, будто бы от мороза, будто бы от угара.
Об этих смертях молчали.
Молчал о смерти своего отца и ученик Инженерного училища Федор Достоевский, живущий в брошенном дворце, о смерти хозяина которого тоже молчали.
Молчал он не потому, что был робок и жаден или не захотел отомстить убийцам. Наследство тяготило его, и свою долю наследства он уступил за тысячу рублей. Опекун П. А. Карепин, судя по словам его, выделенным в письме к Федору Михайловичу, противился решению наследника, поступая так «из сострадания к жалким грезам и фантазиям заблуждающейся юности». Но Достоевский отвечает: «Повторяю свою просьбу и умоляю... помочь мне в самом ужасном обстоятельстве моей жизни».
Деньги были получены: за день Достоевский прожил 900 рублей, а последнюю сотню тогда же проиграл на бильярде.
Деньги не держались у Федора Михайловича, он их мучительно добывал и легко разбрасывал.
В данном случае он, может быть, хотел и развязаться, стереть память о страшном деле.
Весть о смерти отца, насколько мы можем видеть по письмам, не вытеснили мысли его о литературе.
Пока он пытался состязаться с великанами, считая себя их достойным соперником.
Он писал Марию Стюарт – трагедию, уже написанную Шиллером, писал Бориса Годунова, написанного Пушкиным, – тоже заново.
Писал, сопоставляя себя с гигантами, чувствуя себя одновременно героем Гюго и героем од Державина.
Трудно представить себе человека, которого мы знаем по его литературным произведениям, вне литературы.
В литературе человек откровенней и прямей, чем в дружеском письме; литература дает ему средство, сравнивая себя с ее героями, противопоставляя свое написанному, выразить в результате именно самого себя в своей сущности.
Письма часто бывают традиционнее, связаннее литературного произведения: они ограничивают пишущего уже тем, что он точно представляет себе адресата и его восприятие.
Федор Михайлович в своих письмах к любимому брату Михаилу условнее, архаичнее, связаннее, чем в литературных набросках.
Узнав о смерти отца, Федор Михайлович пишет брату.
Со дня смерти уже прошло полмесяца, но известие, вероятно, задержалось в пути. Брат успел написать Федору Михайловичу, что хочет, получив в Ревеле офицерский чин, ехать в деревню воспитывать сестер.
Федор Михайлович сперва оправдывается в том, что ответ задержался: не было денег на отсылку письма.
«Ну вот наконец и тебе письмо мое!
Поговорим, потолкуем!
Милый брат! Я пролил много слез о кончине отца, но теперь состоянье наше еще ужаснее; не про себя говорю я, но про семейство наше. Письмо мое отсылаю в Ревель, сам не зная, дойдет ли оно до тебя... Я наверно полагаю, что оно тебя не застанет здесь... Дай-то бог, чтобы ты был в Москве; тогда об семействе нашем я бы был покойнее; но скажи, пожалуйста: есть ли в мире несчастнее наших бедных братьев и сестер? Меня убивает мысль, что они на чужих руках будут воспитаны. А потому мысль твоя, получивши офицерский чин, ехать жить в деревню, по-моему, превосходна. Там бы ты занялся их образованьем, милый брат, и это воспитанье было бы счастье для них. Стройная организация души среди родного семейства, развитие всех стремлений из начала христианского, гордость добродетелей семейственных, страх порока и бесславия вот следствия такого воспитанья. Кости родителей наших уснут тогда спокойно в сырой земле; но, милый друг, многое должен ты вынести».
Письмо довольно длинное, я привожу из него только отрывок.
Может быть, архаичность стиля вызвана необычностью повода. Выражение «стройная организация души среди родного семейства», «гордость добродетелей семейственных», само расположение слов, инверсии, то есть перестановки слов, некоторая торжественность письма, образы письма – «кости родителей» – все это мертво и официально.
Так не писали и во времена Карамзина.
Ни Михаил Михайлович, ни Федор Михайлович в деревню не. поехали. Все это был прекраснодушный разговор, сказанный потому или, вернее, написанный потому (чернила здесь все время чувствуются), что живого слова, живого признанья в ужасе происшедшего не было даже между двумя чрезвычайно любящими друг друга братьями.
Разговор здесь идет о другом, – не о смерти, а о благих намерениях.
Для того чтобы найти новое слово, нужно быть писателем. Сами по себе слова говорят только об общем. Самое типичное слово в словаре – «это», оно содержит в себе только указанье без вскрытия сущности предмета, на который направлено вниманье. Слова рождаются для указания и до конца не могут исчерпать предмет, не могут показать его сущность.
Искусство не рождается из слова, оно преодолевает слово. Словесными сочетаниями оно прорывается к миру, и для этого оно сопоставляет прежде существовавшие литературные явления, преодолевая их, стремясь увидеть то, что еще не увидено, описать существующее, но еще не описанное.