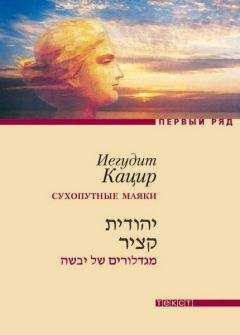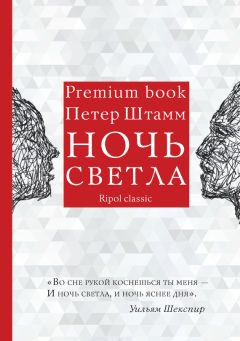— Видать, и правда придется ехать…
— Дак, Миколай Иванович, уж не оставь меня-то, пожалуйста, — попросила Настасья.
— Да я что… Поедем ежели.
— Ну вот и слава богу. — Настасья ушла в проулок вместе со старухой Егоровича.
Лешка протестовал:
— На что нам эта кресная? Поедем втроем!
— Зять Станислав… — Егорович почесал бороду. — Рыжиков опять же кадушка целая, совсем как свежие. У зятя и остановимся.
— Ну!
— Дак ведь завтра уж ехать-то надо, — расстраивался Николай Иванович. — Вот ведь… Как снег на голову.
— Не надо нам Настасью с собой, — решил Егорович. — Баба, она баба и есть. Сколько разов с бабами езживал, все время что-нибудь да стрясется. Помню, в сорок шестом поехал с Манькой Ухватовой. Котомка сухарей была, послали на лесозаготовку. Народу как сельдей в бочке, еле из вагона вылезли. Гляжу, опояски тутотка, а котомки нетутка.
— Это уж точно, — сказал Лешка, — намаешься с ними.
— А уедем, да и крышка!
— Оно верно, до сенокосу бы съездили…
— Ну!
— Поездом или пароходом?
— Лучше пароходом.
— Придется ехать, — сказал Николай Иванович, и дело было решено.
…Позже он говорил, что если б не Лешка с Егоровичем, то ни за что не поехал бы — это, мол, они уговорили его. Но я-то знал, что Николаю Ивановичу, конечно, хотелось побывать на совещании передовиков.
Все трое накануне поездки спали плохо. Уснули только под утро.
Белая ночь расстелила над деревней ласковые, нетревожные сумерки. Розовели, белели, желтели цветы в родимых полях, расходились по речке матовые туманы. Лошади ржали в ночи, тоже понятно и ласково. Ласточка завозится в теплом гнезде над окном, почиликает что-то сквозь сон. Либо вздохнет во дворе корова, и снова все тихо. Только дергач неутомимо сказывается за омутом. И так хорошо дома, на своей земле, понятной и близкой любою своей травинкой! Лешка спал на повети, в пологе, спасаясь от комаров. Ему снился веселый город, он, Лешка, сидит в ресторане и курит толстую папиросину. Николай же Иванович всю жизнь мечтал посмотреть цирк либо зверинец. И ему тоже снилось что-то непонятно волнующее, невиданное. Егорович, ворочаясь на деревянной кровати, не спал совсем, но как наяву видел зятя Станислава, высокого, уважительного. Зятя он знал только по переписке, но явственно представлял его: высокого, уважительного. И обязательно в шляпе. Егорович воображал в уме, как заходит в новую квартиру, как зять Станислав усаживает его на диван и степенно отцом называет его. Потом они идут с зятем по городу, идут вставлять Егоровичу зубы, и все люди, даже большие начальники, с почтением смотрят на них.
Утром на пыльной, не очень гладкой дороге по-медвежьи зарычала сельповская машина, идущая за товаром к ближайшей пристани. Три друга стояли в кузове над кабиной. Праздничные, глядели вперед. Все трое принарядились, стали серьезнее: Николай Иванович в двубортном костюме с галстуком, но в. сапогах и в кепке. Лешка тоже в костюме, но в соломенной шляпе и в ботинках. На Егоровиче был всегдашний картуз, сапоги, брюки хэбэ, а также шерстяной, из другого комплекта, пиджак и темно-синяя, в крупную белую полоску рубаха. Егорович рассуждал:
— Чего я в жизни не люблю, так это в дорогу с бабами. Да еще с ребенками нянчиться. Самое это последнее дело. А в дороге с бабами тоже одна морока. Ты, Олексей, как от Настасьи-то отвертелся?
— Я ей говорю: кресная, мы только под вечер поедем…
— От молодец!
— Говорю, пароход перешел на летнее расписание.
— Добро, ладно, хорошо!
— Говорю: кресная, мы не утром поедем, а вечером. Она и поверила.
Вдруг Лешка, не жалея новые брюки, бросился в кузов, дернул мужиков за полы, чтобы сделали то же: у поворота, около изгороди, стояла Настасья с корзиной и заранее «голосовала», ждала машину. Но шофер был предупрежден, и машина не остановилась. Все трое долго лежали в кузове. Лешка выглянул, когда выехали на безопасное место.
— Все, теперь все!
— Осталася? — Егорович тоже выглянул из-за кадушки с рыжиками. — Добро, ладно, хорошо!
— Намаялись бы с ней, — сказал Лешка, как бы оправдываясь перед молчавшим Николаем Ивановичем. — Пусть дома сидит. В религию, вишь, ее потянуло.
Закурили. Машина стелила колеса, переваливаясь по дороге через веселый, горушками, березовый лес.
— Мы как приедем, так первым делом к зятю Станиславу…
— Рыжики твои сдадим в камеру хранения. Адрес-то зятев не забыл?
— Я его назубок помню. Да вот и конверт взял. Егорович достал из картуза старый конверт.
— Места всем троим хватит, квартера большая. Машина вдруг ткнулась и забуксовала. Подождали —
не выедет ли. Шофер газанул, но колеса зарылись еще глубже, и пришлось заглушить мотор.
__ Добро, ладно, хорошо, — сказал Егорович, и все начали вылезать из кузова.
Тем временем обманутая ни за что ни про что Настасья долго охала и расстраивалась. Потом она взяла себя в руки и, перекрестившись, деловито пошла на пристань пешком. Пошла не по большой дороге, а напрямую, пешеходной тропой вдоль речки. Куковала кукушка. Трава вдоль тропы была молода и первозданно свежа, березы вскидывались ветвями в одну сторону. Только Настасье было не до природы — она боялась опоздать на пароход. Пригорок сменялся пригорком, тропа стелилась теперь по высокому, обросшему сосняком берегу. Наконец открылась река, со спокойным синим плесом внизу, с пустынным временным дебаркадером. Парохода не было еще и в помине. Настасья торопливо взяла билет и уселась на бревнах. Закусила чего-то, не спеша перевязала белый, в голубую горошину, бумажный платочек. Долго сидела так, глядя на реку. Пароход гукнул за поворотом, вскоре показалась мачта с бьющимся на ветру вымпелом. Настасья сначала охала и жалела опаздывающих мужиков. Но делать было нечего, она решила ехать одна и погрузилась на пароход.
Машина же, как рассказывали, завязла так прочно, что пришлось вырубать вагу, то есть большое тонкое бревно. Начали вывешивать, потом натолкали под колеса камней и кольев, помогали плечами. Из-под колес летела жирная земляная каша. Выехали еле-еле. Шофер гнал теперь что было мочи, и, может, поэтому топкие места проскакивали с ходу. Не по-хорошему выскочили в поле, стремительно развернулись у пристани. Пароход еще не отчалил. Лешка через бочки и ящики прыгнул, ткнулся туда-сюда в поисках окошечка кассы. Касса была уже закрыта. Лешка метался, искал кассиршу, просил не убирать сходни. Пароход дважды неторопливо гукнул.
— Неси рыжики! — заорал Лешка, но Егорович и Николай Иванович уже волокли кадушку. Взяв билеты, Лешка стал помогать; не успели очухаться, как пароход пошел. Лешка не понимал, чего хочет от него вахтенный матрос, и озирался:
— Ух, мать честная, еле успели!
— Билеты ваши дайте!
— Чего?
— Билеты, говорю, покажите! — горячился матрос.
Лешка нашел наконец билеты, отволок в сторону кадушку с рыжиками. На палубе все трое долго приходили в себя.
Пароход плыл по реке с музыкой. Он был набит битком.
Лешка с Егоровичем оставили кадушку под присмотром Николая Ивановича, решили сходить в буфет. Пробираясь в толкучке, Лешка вдруг остановился и выпучил от удивления глаза: на нижней палубе сидела и жевала булку Настасья. Лешка дернул Егоровича за рукав, чтобы скрыться, но Настасья успела их углядеть и несказанно обрадовалась. Лешка небрежно подошел к ней.
— Это… кресная… Ты чего, поехала, что ли?
— А я, Олеша, сидела-сидела на лавке да на улицу и пошла. Думаю, чего до вечера ждать? Ты уж не сердись, что вас-то не дождалась…
Лешка то ли крякнул, то ли кашлянул:
— Надейся вот… на тебя…
— Машину-то останавливала, да машина-то не остановилась, а я и пошла пешком. Вы-то как добрались?
Лешка не ответил на этот вопрос.
— Ну ты, кресная, вон за рыжиками погляди, — сказал он. — Мы в буфет сходим.
— Погляжу, как не погляжу. А вы уж не оставьте меня-то…
— Сиди тут, никуда не ходи. Пошли, Николай Иванович!
Все трое отправились в буфет.
— Добро, ладно, хорошо. — Егорович сердито крякнул. Настасья перебралась к рыжикам, она была довольна.
Здесь, у кадушки, она почувствовала себя как дома. Чему было радоваться? Позже все товарки ругали ее за то, что связалась с мужиками. Ехала бы, дескать, одна, намного было бы лучше. Но уж так повелось, что с мужчинами в дороге считалось спокойнее, и Настасья была очень довольна.
Шлепали по воде колеса, наяривала где-то гармонь. В буфете стоял дым коромыслом, допивали последнюю бочку пива. На корме пели. Все понемногу утряслось: места стало больше, люди разговорились друг с другом. Настасья угощала соседку по палубе пирогом и рассказывала про свою жизнь.
— Мужик-то есть? — спросила ее соседка.
— Нету, милая, нету. Одна и живу. Уж двадцать пять годов одна, как войну-то открыли, так его на второй день и вызвали. Одно письмо послал с первых-то позиций. В самый огонь и попал, да кряду, видать, и убили. Степаном звали.