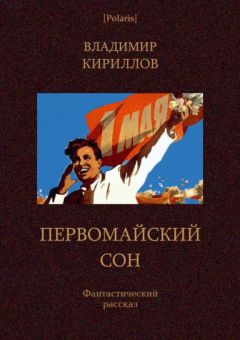Она ходит по льдине и удивляется, как все тут просто и надежно устроено. Солнце теперь не закатится полгода, работать можно круглые сутки, — время разделено на вахты, каждый знает свое утро и свою ночь. От нее зависит — вернуться через несколько дней с самолетом, что принес ее сюда, или остаться тут надолго, днем и ночью видеть солнце, ослепительное мерцание льда, жить в палатке, слушать непрерывное тарахтение дизеля электростанции и чувствовать и знать, что ее счастье тут.
Она спросила у начальника станции, можно ли отправить радиограмму в Москву: там у нее заболела мать.
— Как же вы улетели? — спросил начальник и сам отвел ее в радиорубку.
Бородатый, похожий на голландского шкипера из забытой книжки молодой парень в радиорубке отстукал ключом ее радиограмму в Сивцев Вражек и отметил что-то в своем журнале.
Радист был не только молодой, но и славный парень, его, наверное, тронула тревожная радиограмма, он сказал, что волноваться не нужно: в Москве на каждом шагу доктора, там мама не останется без квалифицированной медицинской помощи, да и Галя с ней — присмотрит. Вот на одной зимовке был случай, за которым следили все радисты Севера: врач сам себе делал операцию аппендицита, стояла штормовая погода, никто не мог прилететь ему на помощь.
Она сфотографировала радиста за работой, и, чтобы отблагодарить ее, а может быть, и отвлечь от тревожных мыслей, он сказал, что на льдину заплывает огромная белая медведица с двумя медвежатами; она, если хочет, может увидеть и даже сфотографировать эту милую семейку, вот он закончит свою вахту, и они засядут за торосами, он знает любимое местечко белой мамаши.
Радист разговаривал с нею обдуманно небрежно, наверное от молодости, — чтобы она не подумала, что он хвастает опасностью — какое тут может быть хвастовство, когда приходится брать с собой многозарядную винтовку! До конца вахты осталось часа полтора, прогуляемся?
Что же, она не прочь. За два дня сфотографировала все, что могла (дрейфующая станция — большое хозяйство, но людей тут не так много), всех сняла: гидрологов возле треноги над лункой, аэрологов с радиозондом, океанографа в лаборатории, совершенно здоровых пациентов на приеме у врача, все и всех — не только научных работников, но и худощавого, жилистого кока возле газовой плиты в камбузе, и трактористов, срезавших заструги на льду каким-то прицепным устройством, и выпуск стенгазеты, и оранжевый вертолет над льдиной сфотографировала тоже, и целую пленку портретов для пересылки семьям, — теперь можно сходить и за белой медведицей.
На границе летного поля они встретили высокого старика, борода у него блестела, как серебряная, он поднял руку, приветствуя их, и крикнул, не останавливаясь:
— Куда направляется король эфира после очередной вахты?
— Хозяйка Севера назначила нам свидание, — ответил радист тоже на ходу.
Седой старик крикнул уже издали:
— Передайте ей, чтобы чаще смазывала ось: скрипит, заснуть нельзя… Я буду жаловаться начальнику экспедиции.
Хотя они думали, что это только им одним понятные шутки, она все поняла, почувствовала и ту невольную грусть, что скрывалась за веселой иронией этих людей: если край света не здесь, то где же он?
В Москве теперь ночь… Галя давно возвратилась из мастерской, мама не спит и окликает ее из своей комнаты:
— Галочка, молоко в холодильнике у соседки, она говорила, что поздно не будет спать…
И Галя идет через площадку к соседке, берет молоко из холодильника и пьет прямо из бутылки, переохлажденное, с волоконцами льда, пьет маленькими, осторожными глотками и перелистывает страницы архитектурного журнала — принес почтальон, когда она была на работе. Их двухкомнатная квартирка — только маленький закоулок в большом улье многоэтажного дома, вписанного темным кристаллом в ночное небо. Дом стоит на твердой почве, под ним не колышется черное чрево океана, там надежная земля, безгранично щедрая земля, которая еще подарит тебе счастье, а если не тебе, то твоей Гале.
Счастье, счастье, счастье… Что же это такое, в конце концов? И может ли она считать себя несчастливой? Ведь у нее все было в жизни, ей не на что жаловаться, она бы и не унизилась до жалоб. Белая мамаша — это тоже счастье, вот она сейчас ее увидит, а могла бы и не знать о ней.
Солнце плещется в черно-зеленой воде. Она лежит за ледяным торосом и ждет — сейчас над водой возникнет продолговатая голова белой медведицы.
Этого не нужно было делать, вопрос обернулся против нее самой, но она спросила:
— Трудно вам тут?
— Седову было трудно. Пири и Амундсену тоже. — Бородатый молодой радист засмеялся. — А мы каждый месяц смотрим новые фильмы… К нам даже артисты с концертами прилетают.
Нет, я не о том, совсем не о том, — упрямо спрашивала она, добиваясь ответа не от него, а от себя. — Не страшно?
— Давайте помолчим, медведи — народ чуткий, — вдруг помрачнев, ответил радист. — Страшно на печке лежать.
Это она и хотела услышать. Ей тоже не было страшно. Нигде и никогда. Хотя для нее и не стояли вертолеты, не дежурили день и ночь радисты, не спешили на помощь ледоколы. И трудно никогда не было. Была усталость, болезнь, ранения на войне, были утраты, но, значит, не тяжело, если она все это вынесла… Что же она, железная? «Боже, — ответила она себе, — я ведь обыкновенная баба, но могла б сказать то, что и он: страшно на печке лежать».
Поднялась и полетела. Это только в песне так поется. Не нужно себя обманывать. Она не птица, ей не легко летать. Для ее души нужны большие крылья: слишком тяжелый груз в ее душе. Хорошо, пусть большой, но крылья растут и растут, — может, и вырастут они в конце концов так, что появится та легкость, что снилась ей всю жизнь, — только хватит ли для этого ее жизни?
Радист тронул ее за локоть.
Медведица высаживала на льдину своих детенышей, подталкивала их мордой под зад. Она не успела это сфотографировать. Зато когда медведица спокойно устроилась на льду, а медвежата прижались к ее животу и с любопытством стали оглядываться вокруг и обнюхивать воздух, она уже щелкала затвором аппарата.
За спиной у медведицы колыхался и блестел жирными волнами океан; медведица высоко подымала тонкую голову, медвежата прижались к матери. Все они были ослепительно белые — почти сливались со льдом, только три черных пятна выдавали их: нос и глаза. Солнце пылало, синие тени лежали на снегу… Хорошо, что в аппарате была цветная пленка.
Радист держал наготове винтовку.
— Все? — спросил он шепотом. — Отползайте потихоньку.
Значит, была какая-то опасность? Все же не такая, как на войне…
Радист догнал ее, оба были вооружены: у нее — аппарат на потертом ремешке, у него — многозарядная винтовка за плечом. И там, на войне, было то же самое — всегда кто-нибудь прикрывал ее. Одного она даже видела, когда он лежал под плащ-палаткой. Боже мой, и фамилия уже вылетела из головы, только и помнит: что-то неестественно длинное и неподвижное, совсем не похожее на живого человека. Да еще как он всхлипнул ночью, когда они сидели в окопе на плацдарме. Неожиданно начался ливень. А утром его уже не было…
— Вы могли бы убить белую мамашу?
Радист молча взглянул на нее удивительно чистыми глазами.
— Если нужно, почему бы и нет?
— А на войне вам приходилось убивать?
— Мне было двенадцать лет, когда все окончилось.
— Все?
— Не знаю.
— Я верю, что вам не придется убивать.
Ей стало жалко его чистых глубоких глаз. Они молча дошли до домиков станции.
Неожиданно затянуло тучами небо, ветер налетел сразу со всех сторон, и все потонуло в снежном мраке. Нельзя было выйти из засыпанной снегом палатки. Она волновалась, ждала ответа на свою радиограмму и слушала рассказы профессора с серебряной бородой. Он вовсе не был стариком, просто ему удалось живым вернуться из гитлеровского концлагеря, — профессором он стал уже после войны, а бороду тут отпускают почти все.
Пурга на время утихла, все сошлись в кают-компании, каждый показывал свое искусство: летчики играли на губных гармониках, кок жонглировал тарелками и ножами, трактористы спели дуэт Одарки и Карася. Она тоже не заставила себя просить и спела — неизвестно, почему именно это пришло ей в голову, — ту песенку, которой убаюкивала Галю, старую песенку про ветер, солнце и орла. Может, потому, что все время думала про Галю и про маму, от которой перешла к ней эта колыбельная. Пела она так просто и так искренне, что не было конца восторженным крикам и аплодисментам полярников. Ее заставили еще раз спеть про ветер, солнце и орла, она и не заметила, что свободный от вахты радист записал ее песню на магнитную пленку, и в третий раз зимовщики аплодировали уже магнитофону, а она удивленно слушала свой голос и не узнавала его — такой он был чужой и нежный.
После концерта начальник станции вручил ей давно уже полученную радиограмму.