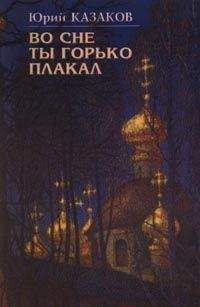Он и духовно такой — а не только сюжетно и стилистически...
Есть обаяние в этой вечной юности.
Конечно, мы знаем, «не взросло» — «в XX веке можно б и не такое... XX век, он...»
И читаем — и заново умиляемся:
«Там я был один раз с дядей и дорогу туда помню. Никого там нету: ни охотников, ни ягодниц, а только одни медведи по малину ходят. Медведи смирные, из-за кустов поглядывают. А брусника там растет такая, что ежели выйти на гарь да поверху кочек глянуть, то все кочки кажутся красными. Земляника растет, и землянику ту никто не берет, и вся она черная, переспелая и такая сладкая — слаще сахара! Войдешь в смородиновые кусты — такой в них крепкий дух, что голова кружится. А ежели по кустам идешь, то тетери и глухари совсем близко подпускают, а потом только — тых, тых, тых! — взлетают, и ветер от них аж в лицо дует. Еще там белки в лесу скачут, только они сейчас рыжие, шерсть у них никудышная, и мы их не бьем. А еще там под косогором, ежели через завалы переберешься, овраг перелезешь да вниз спустишься, родник есть, ключ по-нашему, и сколько я разной воды перепил, но такой никогда не пил, и вода там, надо думать, лечебная...» («Ночь»).
Это говорит не автор — это говорит юноша Семен — один из немногих героев Казакова, любимых им, автором, безоглядно и безусловно (ибо вообще-то Казаков, по традициям той литературы, от которой он идет, одновременно любит героев и духовно строг к ним) ; он напоминает Калиныча и Павлушу из «Бежина луга»; он говорит за автора, автор же уходит за него — ибо, по канонам русской литературы, боится, как автор, показаться слишком сентиментальным.
Но именно потому, что тут говорит герой, основная жизненная мысль Казакова вдруг выражена и жгуче и четко. Автор бы этого себе не позволил.
Не позволил бы не потому, что не искренен...
Искренность самого Казакова состоит в предельной правдивости его позиции как автора.
Казаков не скрывает, что сам он ушел от природы, и страстно мечтает о ее первозданности.
Мечта эта чисто русская — и притом, и все более — мировая.
Он не становится ни в какие позы; он не притворяется ни исконным крестьянином, ни лихим горожанином, который приехал и «покорил» природу; он не чужд ни влияния заветной вечерней зари, ни индустриального труда рыбаков нынешних; он любит писать о любви («Голубое и зеленое», «Двое в декабре», 1962, и многое иное), но любовь его — не бытовая и не надрывная; она прямо ориентирована на возврат (или на возрождение?) к исходным духовно-природным ценностям — и об этом почти прямо размышляет художник, к которому прибыла на Север любимая со своей суетой и заботой — художник, в котором легко «просматривается» писатель («Адам и Ева»); он любуется мужественным трудом, неотдельным от великой природы, — и он думает о себе и о людях.
Думами-чувствами: как и положено в великой природе...
Но именно не может насытиться.
Не может преодолеть отрыва, разрыва.
В этом-то он предельно искренен.
И тут-то мы чувствуем, что «он не Тургенев»: хотя «стилистически учитывает» Тургенева...
Тургенев мудр и одновременно более целен: «Светлеет воздух, видней дорога...»
Начинаются «Северный дневник» и северные рассказы — и тут-то и видим мы — видим все мужество души Казакова.
Мужество не в том, что он плавает с рыбаками в шторм, участвует во всех передрягах; то есть и это — мужество, но другое; оно, быть может, более достойно уважения, но мы о нем много знаем.
Мужество его особое в том, что он стремится выразить ту коллизию человеческого существования, о которой шла речь.
Много горьких страниц посвящает Казаков своим северным раздумьям, и разговорам, и приключениям. Гимн единству с природой, приведенный тут выше, принадлежит, как видим, Семену, автор же внутренне лишь мечтает о единстве об этом. И признается в том. Характерен очерк «Нестор и Кир» (1961), где устами и поведением обоих «первозданных» персонажей (опять устами! опять «пластично», не прямо!) автор произносит приговор «расколотому» человеку новейшего времени: «— Читал, — сказал я. — Историю изучал.
— История! — вдруг бешено крикнул он и как-то опьянел на минуту, стал красен и лют. — Изуча-ал! Гляньте на него — историю изуча-ал!.. хо-хо!
И тотчас загоготал надо мной Кир, глядел на меня странно как-то, будто издалека, и хохотал... Что же он-то понимал? А понимал, видно, — этот блаженный, идиотик, — что-то он такое понимал!
— Да ты вот пишешь, — перебил сам себя Нестор и сменил тон, стал высокомерен и несмешлив...»
Хуже всего для автора то, что и сам Нестор — старик, рыбак с этим патриархальным именем, — в сущности, не так уж и первозданен, а лишь выступает от имени первозданности.
Что видно и из приведенных слов...
Казаков описывает лов семги, сейнеры и траулеры, тони и северные поселки и поселения, рыбаков и служащих моряков.
По обыкновению художника, он относится к людям любовно и терпимо; он приветствует их труд и заботу, любуется их талантом, живописует (не чураясь социальной статистики!) их бытие. Многие из лучших страниц Казакова посвящены великой северной природе и красивому, мужественному труду людей Севера; и войдут навсегда в хрестоматии по истории русской прозы нашего века.
И собаки, и полярная сова, и рыба, и песец, и льды, и деревья, и небо, и вода, — все непрерывно в поле зрения Казакова; когда же он описывает самих людей, которые живут среди могучей и нетленной природы, однако живут насыщенной и порою бурной своей современной жизнью, в его интонации заметна теплота человека как бы всезнающего, но притом молодого, радостно-усмешливого. Человек у Казакова не боится «стихийных сил» и борется с ними, но побеждает именно потому, что действует в соответствии с их же законами, не вопреки жизни, а в согласии с ней. Отсюда естественное ощущение «роевой» силы людей, ибо природа уважает тех, кто сражается с ней не в одиночку: «Но прежде чем мы поставили паруса, я хочу рассказать в двух словах о нашей „Веге“ и ее команде. Грех было бы не упомянуть поименно всех славных ребят, которые мерзли, мокли и работали на протяжении полутора тысяч километров... Боюсь, что вы не запомните, кто был кто, но вот как нас звали: Толя, Коля, Боря, Витя, Слава, Руслан, Леша и я. Ребята все были славные, молодые, энтузиасты...» Этот задорный коллективизм, мужская спайка при общей любви к природе и одновременной борьбе с ней на равных сочетается с признанием индивидуальной природной инициативы каждого.
Но неизбывна мысль, тревога писателя; выше сказано, что у Казакова как-то не видно внешних проблем и коллизий; но постепенно все прорисовывается и прорисовывается его главная тайная проблема.
Эта мысль его во глубине сердца настолько упорна и постоянна, что она-то как бы и не дает ни на миг Казакову отвлечься от своей очерковой, «эмпирической» фактуры; она-то и не дает засесть за роман, а толкает и толкает к рассказам и очеркам — к естественным эпизодам, текучке жизни; бывают писатели, которые могут описывать семь кругов ада или странное существо Вия и при этом быть и предельно искренними, и предельно грандиозными тут же; Казаков не такой: всюду он сам присутствует; во всех его произведениях есть или автор, или герой, похожий на автора; он все чувствует, обо всем думает — он хочет быть искренним не в чистой фантазии, а на деле, на самом деле.
И будучи самим собой, решить свою исконную и исходнейшую проблему.
«Сколько раз я читал, как кого-нибудь еще в детстве или в ранней юности взяли на охоту — отец или дядя, или деревенский старик (почему-то всех этих литературных стариков звать Флегонтычами, Ферапонтычами и тому подобными дикими кличками, и все они „лукаво“ усмехаются в свои бороды и усы и говорят на нестерпимом книжно-народном наречии, которого не существует в природе), — словом, каждого будущего охотника кто-то привел в лес, и была, конечно, славная охота, и потом дома юный герой любовно глядел на картинно повешенных в сенях краснобровых косачей и на толстоусых зайцев... Моя охота началась тридцать лет назад, на Арбате, ...в читальном зале библиотеки... В детстве мне не повезло в том смысле, что близких родных, к которым бы я мог поехать в деревню, у меня не было, каникулы я проводил на арбатских дворах, природы и в глаза не видал и не думал о ней... Тем удивительнее теперь кажется мне величайшая страсть, которая овладела вдруг мною в темной, холодной и голодной Москве. С чего бы вдруг? И до чтения ли было тогда мне?» («Долгие Крики», 1966—1972).
Здесь тот редкий случай, когда Казаков «проговаривается» публицистически.
Ибо вообще-то при всей его автобиографичности и очерковости он, как строгий стилист, почти всегда стремится остаться именно художником-пластиком, художником-живописцем. Он «классик», а не «романтик» по стилю (не по материалу, не по идее, пафосу! Тут он романтик!), наш Казаков...
Приходится слышать, что «настоящий писатель» не умствует; что он живописует — и все тут, а в жизни может быть ограничен и глуповат.