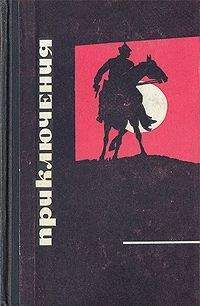На больном дворе было восемнадцать зданий. Одно было занято кухней и прачечной, другое — клубом. В остальных жили прокаженные — женщины, мужчины, дети… Всего семьдесят восемь человек. Они жили замкнуто, стараясь в покое своего жилья спрятать от всех и свою боль, и свою непотухающую, как болезнь, тоску. Оживление возникало редко — обычно при появлении на дворе новых больных.
Даже известие о войне не вызвало у прокаженных никаких волнений. Да и какое отношение могла иметь к ним война или они к ней? Какие изменения вносила она в их жизнь?
Только у двух человек это известие вызвало некоторое беспокойство: у Аннушки, сын которой служил в солдатах и вот уже полгода как не писал ей писем, да еще у старика Татошкина. Первая была уверена, что ее Яшеньку убьют, а второй желал отправиться "на германца" добровольцем и показать теперешним воякам, как надо воевать. В 1914 году ему пошел шестьдесят девятый год. Татошкин выглядел очень старым. Он едва держался на ногах. Над ним смеялись, и старик сердился.
Кроме этих двух больных, война никого и никак не интересовала.
Иное дело — исцеление! Надежда на него таилась в сердце каждого прокаженного. И странно, у некоторых она была так безмерно велика, что никакая самая безнадежная действительность не могла ее поколебать. Каждый больной, вступая на землю больного двора, считал себя временным гостем. Вот придет срок, и он уйдет, обязательно уйдет здоровым, очищенным, его никто не посмеет удержать здесь.
Впрочем, никто из них никогда никому не высказывал своих предположений.
Они все хранили их про себя.
Так шли дни, месяцы, годы, и в этих годах прокаженные строили свою жизнь. Они старались быть похожими на здоровых людей — в пище, в домашней обстановке, в одежде, в работе… Среди них имелись хорошие мастера — сапожники, портные, столяры. Все они стремились работать в лепрозории так же, как «там», стараясь выполнить свою работу аккуратно, "по совести".
Некоторые лежали в постелях. Болезнь отняла у них силы, здоровье, возможность работать, но оставила единственное сокровище — надежду.
Поднимались они редко и лежали молча, не жалуясь никому ни на боль, ни на одиночество.
В тот день, когда над степью пронеслась гроза, доктор Туркеев работал с особенным увлечением. Он сиял. Предстоящая поездка в город, по-видимому, являлась причиной такого настроения. Он шутил с больными, был словоохотлив, больные улыбались ему. Они любили его, особенно вот таким, как сегодня.
Доктор хотел предупредить больных, что он берется выполнить в городе их поручения, но опоздал — еще рано утром Лидия Петровна обошла с этой целью больной двор.
- Ну, конечно, — громко болтал доктор, — я всегда и везде опоздаю. Куда мне тягаться с молодежью! Ох уж эта молодежь! На ходу подметки режет.
Больные, слушая его болтовню, чувствовали, что в этом человеке бьется хорошее, горячее человеческое сердце.
- Николай Васильевич, — продолжал Туркеев, — ты стал лучше выглядеть.
Совсем молодцом. Лечись, только аккуратно лечись, не ленись, батенька, ручаюсь: нам придется с тобой расстаться. Неужели ты уедешь от нас? И тебе не жалко? А ты, Анисья, почему такая кислая? Квашеной капусты наелась с утра? Нехорошо. Во сне свадьбу видела? Не верь, батенька, снам, пустое дело.
Вот скоро мы выдадим тебя за Трофима — мужик он дельный, умный, и хотя охочий до чужих жен, но ты накрути ему хвост. Трофим, ты возьмешь ее в жены?
Анисья, я приду к тебе сватом от Трофима. Чего ты отворачиваешься? Приду, вот увидишь — приду. А ты, Настенька, все по мужу непутевому плачешь? Не стоит он твоих слез. Раз на другой бабе женился — кончено, все одно что отрезанный ломоть. Вот подожди немного, подлечим тебя и выдадим за орла.
Посмотри-ка на Мотю — вон какая веселая да розовая, будто только что из бани или со свиданья. Ты, Мотя, в кого влюблена? А? Э-эх, сбросить бы мне десятка полтора, приударил бы я за тобой…
В таких разговорах проходил осмотр. И если бы какой-нибудь посторонний заглянул сюда в эту минуту, он ни за что не поверил бы, что здесь идет врачебный осмотр тех самых людей, которых сторонится человечество, "как диких зверей".
Но чудесное настроение Сергея Павловича было внезапно испорчено почти невероятным событием.
Во время осмотра к нему подошел Протасов — один из обитателей больного двора. Уставившись на доктора так, будто он выпил сулемы вместо воды, Протасов сказал:
- Сергей Павлович, несчастье… Такой случай… И скажите на милость…
Доктор Туркеев умолк и сверкнул на Протасова очками.
- Ты чего хочешь?
- Да Строганов — там у себя… Что Строганов?
- Повесился Строганов, Сергей Павлович… Ну что вы скажете — такая беда!
- Вот тебе раз. Да ты, батенька, кажется вздор несешь… Как это так?
Среди больных кто-то ахнул. Доктор тяжело уронил свою бороду на халат.
Веселость будто сняло рукой. Он озабоченно протер очки, потом снова принялся выслушивать больного, но не дослушал и передал стетоскоп лекпому Томилину.
- Нуте — ка, займитесь вы. И вышел.
- Ну да, ну да, — твердил он сам себе, спеша на больной двор. — Как же иначе? Ясно. Реалист. Не верил в выздоровление. За тридцать лет ни одного самоубийства, и вот — пожалуйте.
…Строганов висел на веревке, и лицо его было странно спокойным, будто заснул он в петле. На столе горела керосиновая лампа, зажженная еще его рукой. Около лампы лежала клеенчатая тетрадь.
Доктор Туркеев остановился на пороге, взглянул на самоубийцу и покачал головой. Потом подошел к трупу, пощупал пульс и вдруг, повернувшись к Протасову, гневно закричал:
- Прежде всего ясность: в чем дело? Зачем он сделал это?
Не получив ответа, он шагнул к столу, взял тетрадь и, открыв дрожащими руками обложку, прочел на первом листе:
"Доктору Сергею Павловичу Туркееву — врачу и человеку".
- Вот тебе н-на!
Он перевел взгляд на мертвого, будто спрашивая его — что означает сия надпись, и снял очки. Протирал он их долго, со всей тщательностью, хотя в том не было никакой надобности. Потом сказал Протасову:
- Пойдите, зовите людей. Надо же его снять. — И, обратившись к Строганову, тихо произнес:
- С чего это ты, батенька? Ай-яй-яй…
Доктор только сейчас вспомнил, как недели две назад приходил к нему Строганов. О чем он просил? Ах, да… Как глупо. "Чудак, ненормальный, — думал Сергей Павлович, стоя у стола и рассматривая висящего покойника — Как глупо. Больше того, это, батенька, просто возмутительно. Безволие. Слабость…"
Люди пришли и начали снимать тело.
Доктор Туркеев пошел к выходу и в дверях столкнулся с Лидией Петровной.
- Мы нынче, батенька, не поедем в город, — сказал он сурово, не глядя на нее.
Между заведующим лепрозорием, стоящим сейчас в дверях, и утренним Сергеем Павловичем не было ничего общего.
3. О чем мог писать человек с "львиным лицом"
Доктор Туркеев уселся поудобнее и придвинул поближе к себе лампу.
"Мне кажется все это чрезвычайно странным, — так начинался дневник, — вот я очутился в маленькой светлой комнате, из окна которой видна такая ровная, такая хорошая степь и дальний курган…
Странно: как будто бы ничего не произошло. Вот и стол придвинут к стене, как был он придвинут в моей комнате, там, в селе, в школе, где остались мои ребята. И койка почти такая же… Обстановка как будто ничего не говорит о чудовищном изменении в моей жизни. И только зеркальце всякий раз, как я замечу его, возвращает меня к действительности. Шесть лет здесь жил Карташев, а потом ушел. Выздоровел… Выздоровел ли? Доктор Туркеев говорит: это — неправда. Карташев вовсе не выздоровел. Она лишь притаилась у него. Через пять лет она может вернуться. У него взяли письменное обязательство — являться каждые три месяца на освидетельствование к ближайшему врачу. Карташев — мышь, попавшая в зубы кота и думающая, что она еще может спастись.
Предположим, если со мной произойдет такой же курьез, значит, с меня возьмут подобную расписку? Нет, я этого не хочу. Я не желаю быть мышью…
Если существовал Христос и на самом деле нес бремя креста, он был счастливее прокаженного, ибо знал, что скоро последует смерть. Если каторжанин несет бремя каторги, он знает — оно не вечно, а я моему бремени не вижу конца. Если верить доктору Туркееву, я могу протащить свою проказу через весь срок положенной мне жизни и затем умереть от малярии. Какая дикая логика!..
Здесь жил человек, который вылечился. Не странно ли? Иногда этот случай пробуждал во мне надежду. Потом я издевался над ней разве может она осуществиться?.. Конечно, нет. Иначе от Карташева не потребовали бы расписки! Но ведь он ушел, значит, поверил… И сейчас он — там, среди здоровых людей, здоровый человек… Даже зеркальце оставил — чудак!
Не знаю почему, но в первое мгновение оно произвело на меня странное впечатление: будто Карташев оставил мне в наследство свою проказу. Я не снял зеркальца и не выбросил его. Я подошел к нему, протер стекло и всмотрелся в отражение. Оттуда глядело обросшее щетиной нелепое лицо — без бровей, без ресниц. Боже мой, что это за лицо. Оно принадлежало мне, Строганову, оно было еще мое. А дальше? Дальше на месте нынешних пятен появятся язвы, и лица, может быть, вовсе не станет, его сменит непозволительная рожа зверя — "львиное лицо", как говорят врачи. Живое тело начинает гнить и расползаться… В тот день я долго сидел на койке и смотрел в осколок стекла, висевший на стене. Вот оно, последнее убежище, последняя моя пристань! Бровей уже нет, ресниц тоже. И разве я рано или поздно не буду похож на самых страшных из тех, кто живет здесь?