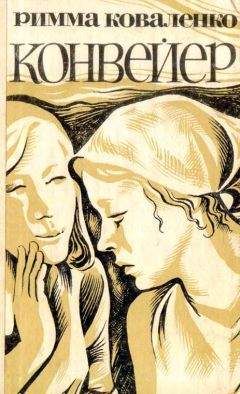— Товарищ комэска, кончится служба, я твою дочку с собой увезу, жениться на ней буду.
Отчим неодобрительно качал головой, отвечал, что мне до этого еще далеко, а я с опаской поглядывала на шофера. Дома у нас каждый месяц появлялся новый номер журнала «Работница». И почти в каждом номере была статья о выдающейся женщине из Средней Азии. Судьбы у них складывались одинаково: в одиннадцать-двенадцать лет насильно выдали замуж за бая, потом революция, малолетняя жена сорвала с себя паранджу и убежала из дома, пошла учиться… Так что этот шофер хоть и не бай, а вполне мог видеть во мне невесту.
Мы с отчимом попеременно менялись местами в машине: то он в кузове, я в кабине, то наоборот. Но после слов шофера я ни в какую не пошла в кабину. Мы стояли с ним, положив ладони на теплый верх кабины, ветер трепал наши волосы, а мы стояли рядом и смотрели вперед. Будто кто-то, зная о близости нашей вечной разлуки, поставил нас рядом и дал наглядеться в последний раз на синее небо, зеленые леса, на мирную, довоенную дорогу.
Грузовик остался на дороге. Мы с отчимом шли среди сосен, мимо дачных фанерных домиков, по утоптанным иголкам прошлогодней хвои. Качались в гамаках дети, на таганках варили еду молодые женщины в ситцевых сарафанах, высокие желтостволые сосны загораживали своими кронами небо, и весь этот мир был похож на просторный, обжитый людьми дом.
Возле ворот пионерского лагеря отчим опустил чемодан на землю, и его махорочного цвета глаза столкнулись с моими.
— Если я что-то сейчас скажу, Рэма, это умрет в тебе?
— Умрет.
Он достал из кармана гимнастерки бумажник, вытащил деньги и протянул мне пятьдесят рублей и сложенную квадратом записку.
— Спрячь надежно. Если начнется война, домой не возвращайся. Скажи, чтобы тебя отправили по этому адресу, к моим родным.
Я не испытала страха. Мы жили недалеко от границы; если война начнется, там же, на границе, ей дадут по зубам.
Мать меня разыскала осенью того же года в детском доме под Тамбовом. Той же осенью мы поехали дальше, в Сибирь.
Три длинных военных года каждый день мы ждали весточки от отчима. Она пришла уже в самом конце войны: пропал без вести.
В сорок четвертом сразу после освобождения нашего города, мы вернулись на родину. Через месяц после приезда мать встретила отчима. Он шел по улице в генеральской шинели, немного располнел и стал меньше ростом. У матери потемнело в глазах. Когда она очнулась, его уже не было.
Во второй раз она увидела его через год, в трамвае. Он похудел, глаза ввалились, что-то тяжелое случилось с ним в жизни. Вскинул на мать испуганный взгляд и отвернулся.
— Почему же ты не заговорила с ним? — Мне хотелось так же, как и ей, верить, что это был отчим.
— А ему бы еще хуже стало, — ответила она, — зачем мне было еще добавлять.
Третья встреча обожгла меня своей жестокостью. Отчим шел с молодой нарядной женой, и вели они за руки двух близнецов.
— Большие близнецы? — спросила я, чувствуя и горечь и ревность в сердце.
— Большие. Лет по шесть.
Это было вскоре после войны, и я высчитала, что у него не могло быть таких больших детей.
— А может, это ее дети, — сказала мать, — взял же он меня с тобой.
Она долго еще пугала меня этими встречами, сама верила в них, и я, поборов сомнения, тоже пыталась верить. Вглядывалась на улицах в лица мужчин, однажды издали увидела одного, похожего на отчима. Рассказала матери. Она вздохнула.
— Нет, это не он. Как ты подумать смогла, что он жив и живет без нас.
До войны в этом дворе было четыре клумбы и вдоль дальнего забора росла малина. Осенью сорок первого забор сломали, двор стал проходным, клумбы потоптали, а малина зимой того же года вымерзла.
Тоська Орлова во всем винила нас, эвакуированных.
— Им тут все чужое. Воду мыльную с крыльца льют. А что им! Война кончится — к себе уедут, а нам за ними выскребай.
Что Тоська будет когда-нибудь за кем-нибудь выскребать, верить не приходилось. Тоська была женщина взбалмошная и одинокая. Возникала из темноты двора, набрасывалась на свою жертву, не щадя голоса.
— Кто это, интересуюсь, меня сволочит, что я мужиков к себе ночью пускаю? Каких мужиков? Да если бы ко мне сунулся какой, я бы его тут же на месте кончила. И пусть меня трибунал к стенке ставит.
Жертва, чаще всего это был старый бухгалтер Саенко, замирала от ужаса и оглядывалась по сторонам со слабой надеждой на помощь. Саенко к тому же снимал шляпу и даже в холодный день обмахивал ею лицо.
— Тебя, к примеру, Степан Степаныч, я хоть раз пустила?
Получалось, что Саенко пытался к ней ночью проникнуть, но она не пускала.
Саенко был холостяком, но Тоськиных намеков панически боялся.
— Мерзавка, — шептал он, приходя в себя. — Хулиганка.
Эвакуированных Тоська терзала из идейных соображений.
— Молодые девушки там за них кровь молодую проливают, а эти здоровые бабилы сюда притащились чужие заборы ломать. Детями прикрываются! Такие дети тоже могли там стать юными героями, а не иждивенцами.
Эти камни летели прямо в меня. Я в начале войны училась в пятом классе и по хлебной карточке считалась иждивенкой.
— Тоська, — сказала я ей однажды, — что ты позоришь людей? Как тебе не стыдно. Это же война, и люди сюда приехали не потому, что струсили, а потому, что не хотели оставаться под фашистским игом.
Я продумала эту речь с вечера и утром, перед школой, постучала в дверь и с порога произнесла ее.
Тоська сидела на кровати. Из-под короткой рубашки торчали костлявые ноги, спутанные волосы на голове клубились облаком. Она глядела на меня, не понимая, зачем я пришла, о чем говорю. Комната была подвальная, с высокими подоконниками, над кроватью висел старый полопавшийся ковер, рисованный масляными красками: озеро и на скале, в зелени деревьев, — белый замок. Было в этой комнате и в самой Тоське столько сиротства и нищеты, что мне расхотелось учить ее уму-разуму.
— У вас картошка есть? — спросила она.
— Откуда у нас картошка, — ответила я, — Ни у кого сейчас ничего нет.
— А у дезертира есть. И масло откуда-то носит, топит и в бутылки сливает. — Тоська оживилась, вскочила с кровати, приблизилась ко мне. — Ключ у меня есть от его комнаты. Не побоишься? Откроешь? Пару картошек возьмешь — и назад.
Я опешила.
— Ненормальная ты, Тоська. Это же воровство. За это в тюрьму посадят.
— Ты малолетняя, тебя не посадят. Я в коридоре буду стоять. Откроешь, возьмешь — и ни одна холера не узнает, что ты там была.
В голове, в груди, в ногах стучало от страха, когда я выскочила из Тоськиной комнаты. Дезертиром она обзывала Саенко, хотя тот и рядом с фронтом не был. За сто метров было видно, что он бухгалтер, одинокая душа, старик. И шляпа у него была бухгалтерская — соломенная, с черной ленточкой, и фамилия бухгалтерская. В окне его комнаты дольше, чем в других, горел свет тусклым, невнятным пятном — это Саенко под настольной лампой складывал свои цифры. Я все про него знала. Про всех я тогда все знала: и то, что Тоська только прикидывается старухой, а на самом деле хитрая ленивая тетка, и то, что у маникюрши Аделаиды никакой муж не погибал на фронте. У нее вообще не было мужа.
Аделаида вывезла «из-под разрывов канонады», как она говорила, альбом с фотографиями. Он состоял из фотографий одного размера, на плотной бумаге, не любительских. Аделаида была на них глазастая, по-глупому красивая, особенно на одной — в венке из крупных садовых ромашек. Я перелистывала альбом. Аделаида хвасталась:
— Я до войны была как яблоко. Мне один сказал: «Вы как яблоко, на вас посмотреть и то приятно».
Теперь она была обвисшая и зыбкая, с тяжелыми, как у рыбы, глазами и совсем не походила на Аделаиду с фотографий. Раскрывала ридикюль, раскладывала на столе серьги и кольца.
— Вот так разложу, погляжу, а продать — рука не поднимается. Понимаю, что сдохну, если не поддержу себя в питании, а рука не поднимается.
Кожа у нее на руках колыхалась, когда она ими взмахивала, и на шее висел пустой второй подбородок. Видно, до войны Аделаида была очень толстая: не яблоко, а тыква или арбуз.
Она никогда не говорила мне о своем муже, который якобы погиб на фронте. Больше того, однажды проговорилась:
— Я по звезде своей — матерь и хозяйка. Мне бы дом с двумя террасами и детей, родню и мужа лысого. А я всю жизнь одна и одна.
Аделаида выглядела старомодной даже зимой сорок третьего года, когда все мы вырядились в старье с барахолки. У меня на груди в ту зиму болталась на шелковом шнурке пушистая рыжая муфта. Аделаида же носила красную фетровую шляпку, с которой с двух сторон свисали лакированные виноградные грозди, салоп или что-то иное в этом роде тащилось по снегу, и Аделаида передвигалась, подняв плечи, как видение из другого мира.