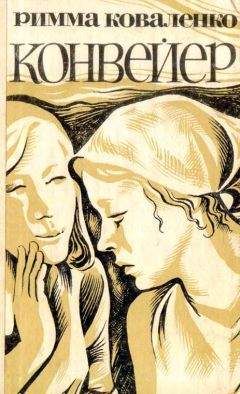— Зачем он вас любит, если у него жена и дети? — спрашивает Ира.
— Любовь выше всего, — отвечает Аделаида. — Любовь управляет человеком, а не он ею.
Она дает нам деньги, и мы идем на базар за молоком. На улице март, но мороз сильный, зима еще не отпустила. Молоко на базаре продают мороженое. Белые мерзлые круги, повторившие форму миски, снизу голубые, сверху желтые, лежат на столах рядами. На базаре бурлят толпы народа. Ушлые тетки-спекулянтки, похожие друг на друга своими заветренными щекастыми лицами, продают американский шоколад без оберток, дрожжи и консервы. Мы с Ирой смотрим на шоколад, на безногих солдат в шинелях и полушубках, торгующих папиросами, и чувствуем свою инородность в этом мире. Протискиваемся к прилавку, покупаем круг молока и чуть ли не бегом покидаем базар. По дороге я говорю:
— Аделаида — мещанка. В альбоме ни одного человека, кроме себя самой, и сны — только про себя.
— Она же не виновата, что у нее нет детей, — оправдывает Аделаиду Ира.
— Жить для детей — это тоже для себя. На фронте каждый воюет за всех. И в тылу все стараются для всех, а она любит только себя.
— А нас? — спрашивает Ира и останавливается.
Я не могу сказать, что Аделаида не любит нас. Это неправда. Но мы ей, наверное, как родные дети, и эта любовь не в счет. Аделаида все равно мещанка, с этого меня не собьешь.
— Она ласковая, — говорит Ира. — Когда она поправится, ты увидишь, что она не мещанка. Просто она не может отвыкнуть от Симферополя.
Ира сражает меня своими словами. Убивает наповал.
— Ты на самом деле так думаешь или просто споришь со мной?
— Я так думаю, — отвечает Ира. — Я очень хочу, чтобы она поправилась, чтобы кончилась война и чтобы она уехала в Симферополь и там опять стала как яблоко.
— А Тоська Орлова тебе тоже нравится?
— Нет, — отвечает Ира, — Тоська Орлова мне не нравится. Вот Тоська, наверное, мещанка, наша Аделаида — нет.
У Иры талант быть другом. Она никого никогда не предаст, это я поняла тогда раз и навсегда.
Дома Ира живет с бабушкой. Отец и мать на фронте. Они военные врачи. Бабушка тоже военный врач, работает в госпитале. Когда мы приходим, она кричит:
— Руки, руки, руки!
Мы моем на кухне руки и только после этого входим в комнату.
Бабушка носит военную форму, она майор. Имени я ее не знаю и никак не называю эту худую, в гимнастерке бабушку с черными косами, уложенными на затылке.
Комната у них большая, с довоенными добротными вещами. Бабушкину кровать отделяет от остальной комнаты старое пианино с подсвечниками. Это чужая комната, бабушка с Ирой живут тут временно, пока идет война.
— Вы любите читать? — спрашивает меня Ирина бабушка.
— Да, — отвечаю я, — но когда в комнате холодно, мерзнут руки, сами понимаете, много не прочитаешь.
Меня тянет говорить взрослым «милая», «сами понимаете», но Ирину бабушку не оскорбляют такие слова. Она видит во мне ровню, говорит «вы» и задает вопросы, на которые трудно найти ответ.
— Я не понимаю, — говорит она, — идет война, идет испытание всему новому, что родила революция, и вдруг этот поворот к старине — женские и мужские школы, коричневые платья и черные фартуки. Зачем это?
Я представляю, о чем она спрашивает. Я сама чувствую в себе этот вопрос. Только спросить не у кого. Мои одноклассницы постоянно говорят о мальчиках из соседней мужской школы. Катя Задорнова, самая красивая девочка в нашем классе, написала стихи и посвятила их какому-то Борису Н. «Здесь, в Сибири, суровы морозы, но не страшно, когда мы вдвоем. Пусть же южные яркие розы распускаются в сердце твоем». На переменах, сбившись у рояля в спортзале, девочки поют тонкими голосами: «Я на подвиг тебя провожала, над страною шумела гроза…»
— Нас разделили, — объясняла я, — чтобы мальчишки росли мужественными, а девочки — женственными.
— Кому это надо… — вздохнув, произнесла Ирина бабушка. — Вы читали когда-нибудь книжки Чарской и Вербицкой?
— Нет.
— Вам повезло. Вы представить себе не можете, сколько вреда человеку могут принести такие книги. Я так верила им в детстве. Так много не сбылось в моей жизни из того, что они наобещали.
Мои книжки меня не обманули. Все сбылось, чему они учили. Я тогда, конечно, не думала, что они меня учат. И не только учат, но и командуют. Тимур и вожатая Натка из «Военной тайны» приказали мне идти в отряд. А потом уже я сама повела за собой этот то ли отряд, то ли театрик через весь город к двухэтажному зданию бывшей школы.
В госпитале нас встретили по самому высокому разряду. Госпиталь был санаторного типа, для тяжелораненых. Здесь лечились те, кто пролежал уже долгое время в других госпиталях страны. Нам выдали крахмальные белые халаты и провели в кабинет главного врача. За широким письменным столом сидел главный врач, он же начальник госпиталя, а рядом с ним — женщины-врачи, среди которых совсем незаметной была Ирина бабушка. Посреди речи главного врача о связи фронта и тыла, о роли искусства в жизни раненых воинов дверь в кабинет открылась и появилась необыкновенной красоты светловолосая девушка в сером госпитальном халате, с костылем. Она держалась прямо, лицо сверкало радостью, и сразу не бросалось в глаза, что костыль — ее вторая нога. Главный врач глянул на нее, насупился, но речи не прервал. Только тогда, когда девушка что-то крикнула ему, он замолчал и поглядел сначала налево, потом направо, на врачей.
— Цветкова, вас сюда не звали, — сказала черная пожилая врачиха.
— А меня не надо звать. Я не гордая. Я могу без приглашения, — девушка закрыла за собой дверь, костыль зацокал по паркету, она села рядом со мной и положила мне на плечи мягкую теплую руку.
— Ты артистка? — спросила шепотом.
— Я вожатая.
— А я была артисткой. Если бы не война, стала бы народной.
С самой первой секунды я ей не верила. Ни одному ее слову. Ира Сенюкова, как потом выяснилось, тоже не верила. Но мы молчали, потому что все другие верили.
Раненую Цветкову звали Люсьена. Она была такая красивая, что ее красота действовала против нее, оборачивалась чуть ли не пороком. Каждый, кто торопел от ее красоты, думал, что встретил чудо, человеческое совершенство. Но Люсьена доставала кисет, закуривала самокрутку, а потом раскрывала рот, и из него, как в сказке, начинали выпрыгивать жабы, ужи и прочая нечисть.
Люсьена решила пристроиться к нашему спектаклю, достала листок, переписала фамилии и роли, сообщила нам, что будет ведущей. Но как только вышла на сцену, из зала на нее зашикали:
— Давай слезай, не мешай детям.
Люсьена все-таки объявила, а потом стояла за кулисами у рояля, курила и мешала, чем только могла: делала замечания играющим, кричала принцу: «Упади на одно колено», стала перестраивать прическу матери, так что та опоздала к своему выходу и все на сцене, дожидаясь, стояли истуканами.
Кончилось дело тем, что один из раненых не выдержал, поднялся на сцену и потребовал, чтобы Люсьена «не портила людям настроение». Та подчинилась, зал зааплодировал, я думала, на радостях, что мы избавились от Люсьены, на самом же деле нас просили начать спектакль сначала.
«Ты не будешь королевой, Золушка, — говорил принц, — я женюсь на тебе, но я не буду королем, а ты — королевой. Наши дети не будут принцами и принцессами. Мы будем с тобой простыми людьми. Мы соберем всех королей, царей и императоров и уговорим их тоже отказаться от своих званий. Мы уговорим их стереть в порошок пушки и винтовки, чтобы никогда не было войны».
Пьеса закончилась, все артисты стояли на сцене и раскланивались, когда из рядов поднялись двое и пошли по проходу к сцене. Зал смолк. Девочки на сцене, окружавшие принца, замерли, все почувствовали необычность минуты.
— Кто Шура Жук, пусть выйдет вперед, — сказал один из раненых. Второй стоял рядом и улыбкой подбадривал: мол, выходи, не бойся.
Бесстрашная Шура повернула голову и столкнулась с моим взглядом. Я кивнула: выходи. Шура вышла вперед и заложила руки назад.
— Как зовут твоего папашу? — спросил первый раненый.
Шура не поняла.
— Отца как зовут?
Шура пожала плечами: нашли место, где расспрашивать.
— Дядя Гриша…
— А по отчеству?
То ли Шура застеснялась, то ли забыла отчество отца, но она вдруг умолкла и опустила голову. И тогда второй раненый, который улыбался, повернулся лицом к залу и закричал:
— Товарищи! Это же Григория Поликарповича дочка!
Шура вскинула голову и с испугом поглядела в зал, а оттуда кричали, спрашивали:
— Поликарпыч? Говори — отчество Поликарпыч?
Шура кивнула, из зала продолжали спрашивать, и она в ответ кивала и кивала — со стороны казалось, будто она одна за всех так странно кланяется.
Потом Шуру повели в палату, где лежал ее отец. Он лежал недвижно. Протянул дочке руку, она взяла ее и держала, смущаясь, не зная, что с ней делать. Отец притянул ее голову к себе и поцеловал. Мы с Ирой побежали к Шуре домой. Мать ее была на заводе. Мы — на завод. Чугунная, в черной шинели вахтерша сказала: