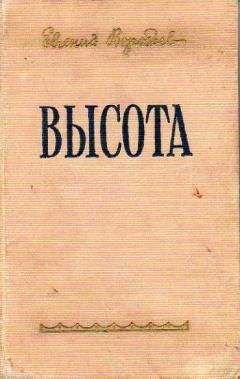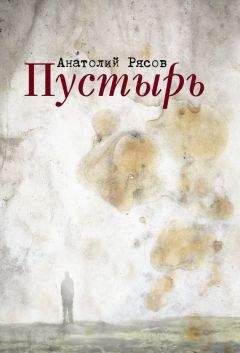Ирина отнеслась к этой новости как к несчастью в их жизни, разрыдалась: и не подозревала, что живет с плантатором, надсмотрщиком. Последний раз она возмущалась рукоприкладством на работе много лет назад, на строительстве Асуанской плотины. Там артелью носильщиков камней командовал «райс», то есть староста, по имени Абут — рослый перекормленный человек с плеткой в руке, с лицом, на котором написано пресыщение властью. Абут наживался на каждом завербованном рабочем, присваивал себе немалую часть его заработка. «Тебя от Абута отличает только то, что у него шесть жен», — сказала она, смеясь сквозь слезы. Пасечник исповедался в своем проступке в горкоме, там его отругали, но во всеуслышание рассказывать об этом не советовали. В тот день Пасечник сам себе вынес строгий выговор с последним предупреждением и с занесением в душу, выговор, который не отменит до конца дней своих...
Наконец Пасечник остался в «третьяковке» вдвоем с понурым Шестаковым.
— Кем в армии-то был?
— Старший сержант.
— А я до гвардии младшего лейтенанта дослужился, малость тебя обогнал. И, между прочим, в первый же день своей военной службы схлопотал выговор.
В тот памятный день с заводских путей Запорожстали отправили один из последних эшелонов с демонтированным оборудованием. Завод уже обстреливали, паровоз стоял под парами, состав длинный-длинный, теплушки вперемежку с платформами. Ходили слухи, что эшелон уходит на Урал, но никто не знал, что станция назначения — Магнитогорск... Вдруг оператор слябинга вспомнил, что забыл взять вертящийся стул, за которым столько просидел у пульта на операторском мостике. Он не представлял себе, как сможет работать без своего стула, и был взволнован так, будто срывалась вся эвакуация слябинга. Пасечник, ни слова не говоря, сорвался с места и помчался в опустевший прокатный цех, который монтировал когда-то. Обстрел не ослабевал, но Пасечник благополучно приволок вертящийся стул. Именно эта пробежка под снарядами укрепила в решении не эвакуироваться с заводом. Он заявил, что уходит на фронт и отказывается от брони, за что директор Запорожстали Анатолий Николаевич Кузьмин устно объявил ему строгий выговор. В тот же день Пасечник подался к разведчикам полка — шел бой на окраине его родного Запорожья, это было 18 сентября 1941 года. Он скрыл, что не подлежит мобилизации. Первые дни так и воевал в каске монтажника, солдатских касок на всех не хватало.
— Выговор мне Анатолий Николаевич, царство ему небесное, дал правильный, — сказал Пасечник, — но совесть моя перед ним чиста... Ты тоже прожил сегодня день с чистой совестью, а я вынужден объявить тебе в приказе строгий выговор, вот ведь какая несправедливость!.. Я недавно снова читал о Серго Орджоникидзе, до сих пор учусь у него жить и работать. Был случай — он вынес несправедливый выговор директору научного института Федоровскому, чьим именем недавно назвали набережную в городе Горьком. Когда Серго убедился в своей ошибке, то позвонил Федоровскому в полночь, извинился, сказал, что выговор аннулирован специальным приказом, а приказ будет завтра напечатан в газете... Почему у меня совесть нечиста? Почему я и подметки не стою товарища Серго, дорогого моему сердцу с юных лет? Да потому, что он извинился и отменил выговор, а я после публичного выговора объявляю тебе благодарность с глазу на глаз, выговор же отменить не смогу... Сам я на своем веку получил немало выговоров, когда ни сном ни духом не был виноват. Но если бы мне выговор дали сегодня, он был бы справедлив. Уже за одно то, что объявил тебе несправедливый выговор.
— Есть и за мной вина. Нельзя было либеральничать с Садыриным, нельзя было ставить его на строповку. Меня Михеич предупреждал.
— Знаешь, чего тебе, Шестаков, не хватает? Омужичиться тебе надо. Не грубей стать, а резкости поднабраться... Отправляйся к Галиуллину, согласно мудрому указанию начальства. Не журись, Шестаков. — Пасечник встряхнул его за плечи. — Говорят, что у победителей раны заживают быстрее.
Шестаков вышел из конторки. Пасечник с симпатией смотрел ему вслед.
Шестаков не утратил армейской выправки и мерил площадку крупными шагами, шагами великодушного человека.
Нет в жизни ничего тяжелее несправедливого обвинения.
А разве справедливый упрек легко выслушать?
Маркаров много философствовал и уверял, что справедливый выговор получить еще горше; помимо упрека, полученного от начальства, тебя в этом случае еще мучает совесть. Несправедливый выговор, по мнению Маркарова, пережить легче, потому что тебя в твоем огорчении утешает мысль, и ты даже получаешь от этой мысли тайное удовлетворение, — ты не виноват, и совесть твоя чиста...
После смены Шестаков остался один, снова вспомнилась обида, и он не знал, куда себя девать.
В клубе «Спутник» по третьему заходу крутили какую-то серию фильма «Война и мир», и кассирша скучала в своем окошке, редко кем тревожимая.
Он отправился на стадион, шел футбольный матч на первенство города — «Автомобилист» и Бетонный завод. У монтажников своей футбольной команды не было. К удивлению Шестакова, за «Автомобилист» играл Славка Чернега.
Вдоль поля — скамейки, они подступают с двух сторон к кромке раскорчеванной поляны, превращенной в футбольное поле.
После матча идти в общежитие не хотелось — расспросы, советы, соболезнования, — и он оказался у павильона «Пиво — воды» в очереди за парнем в дамских резиновых сапогах оранжевого цвета.
Табуретками возле павильона служат аккуратные пни, торчащие в поредевшем сквере. Столешницы тоже прибиты к пням, поэтому павильон и называют «Пеньки».
Шестаков сидел за таким столиком у обочины пыльной улицы. Перед ним кружка с пивом и бутерброд с засохшим сыром.
По улице проезжали самосвалы, автокраны, спешили домой работяги. Доносились обрывки разговоров, смех.
Он удивился тому, что сидит, молчит и ни о чем не думает. Свободный вечер, есть время собраться с мыслями, подумать о жизни. А мыслей все нет и нет. А еще говорят — чтоб словам было тесно, а мыслям просторно.
Как это человек может жить и ни о чем не думать? Или все уже передумано?
Сидел, опустив голову на руки, и подкарауливал мысль...
Был на стадионе, а кто с кем играл и с каким счетом окончился матч — не помнил. Смутно помнил только, как болельщик, сидевший рядом, кричал Чернеге: «Куда смотришь, лохматый? Чуть мяч не проглядел. Завтра же постригись!» И как советовали судье: «Продай свисток, купи очки!», как полузнакомый прораб угрожал с соседней скамейки: «Не забьешь мяч — сниму разряд!»
Шестаков повернулся — и не заметил, как за его столик с кружкой пива подсел Садырин. Тот достал из кармана початую бутылку водки, подлил в кружки себе и рассеянному Шестакову.
— Я уже выпил за себя. А сейчас выпьем за того парня...
— Ты что мне подлил?
— Родниковую воду.
— Вода не утоляет жажды, я помню, пил ее однажды, — театрально продекламировал Шестаков, поднимая кружку.
— Померещилось, ты за Варежкой приударяешь, — недобро усмехнулся Садырин. — Хотел тебе дуэль устроить на узкой дорожке, а теперь вижу — ты не из бойких кавалеров. Девка сама тебе на шею бросается.
— Пока я на ее шее висел. Когда по стреле гуляли в обнимку. Парни, которые ползают на карачках, девушкам нравиться не могут.
— Ну, поехали на карачках! Свои люди — сопьемся. Вздрогнули?
— С тобой? Ни малейшего желания.
— Меня та чувиха в коротенькой юбочке подпутала, загляделся на ее ляжки...
— А если бы колонна рухнула?
— Раздули из мухи слона. Если бы да кабы... — Садырин вскочил с места и крикнул шоферу проезжавшего бетоновоза: — Эй, парень, подвези!
— Некогда мне с пьянью возиться.
— Не человек ты, а бетонавозный жук! — Садырин взъерошил шевелюру и снова уселся за столик. — Ну ладно, я такой-сякой, немазаный. А тебя, если разобраться, за что в отставку?
— Если разобраться, меня тоже выгнали за дело. Не нужно было с тобой церемониться...
Садырин стал длинно оправдываться, но Шестаков не слушал. Садырин и трезвый назойливо общителен, шумен, а сейчас тем более...
— ...потребуй, что тебе причитается, — станут уважать, а будешь в тряпочку молчать и вкалывать — никто тебя и не заметит... Кто ты такой, спросят, чтобы тебя уважали?
Садырин опорожнил кружку и поцеловал донышко. Шестаков глотнул со страдальческой гримасой.
— Нет, в тебе, Шестаков, настоящей рабочей закалки, — снисходительно заметил Садырин.
— Какая гадость! — Шестаков допил ерш.
— Зачем же ты здесь пируешь?
— Лечусь. После операции в «третьяковке». В хирургах состоял сам заместитель министра. А поскольку меня резали без наркоза, принимаю наркоз отдельно... Тебе можно, а мне нельзя? — неуверенно спросил Шестаков, посмотрев на Садырина осоловелыми глазами. — Ты Сенеку читал?
— Бегло.
— Антидюринг вычитал у него, что пьянство — добровольное сумасшествие. А я пьяный разве?